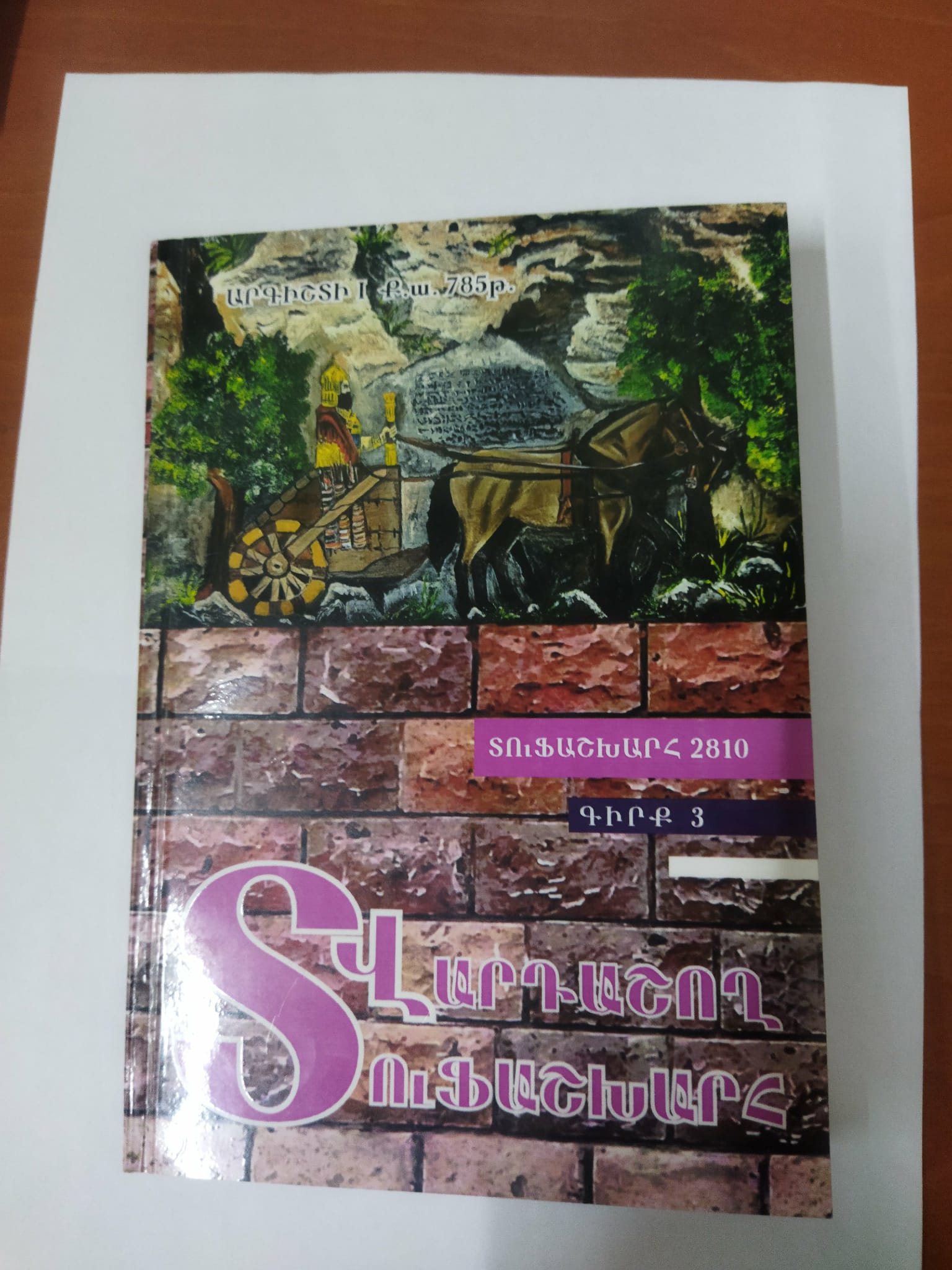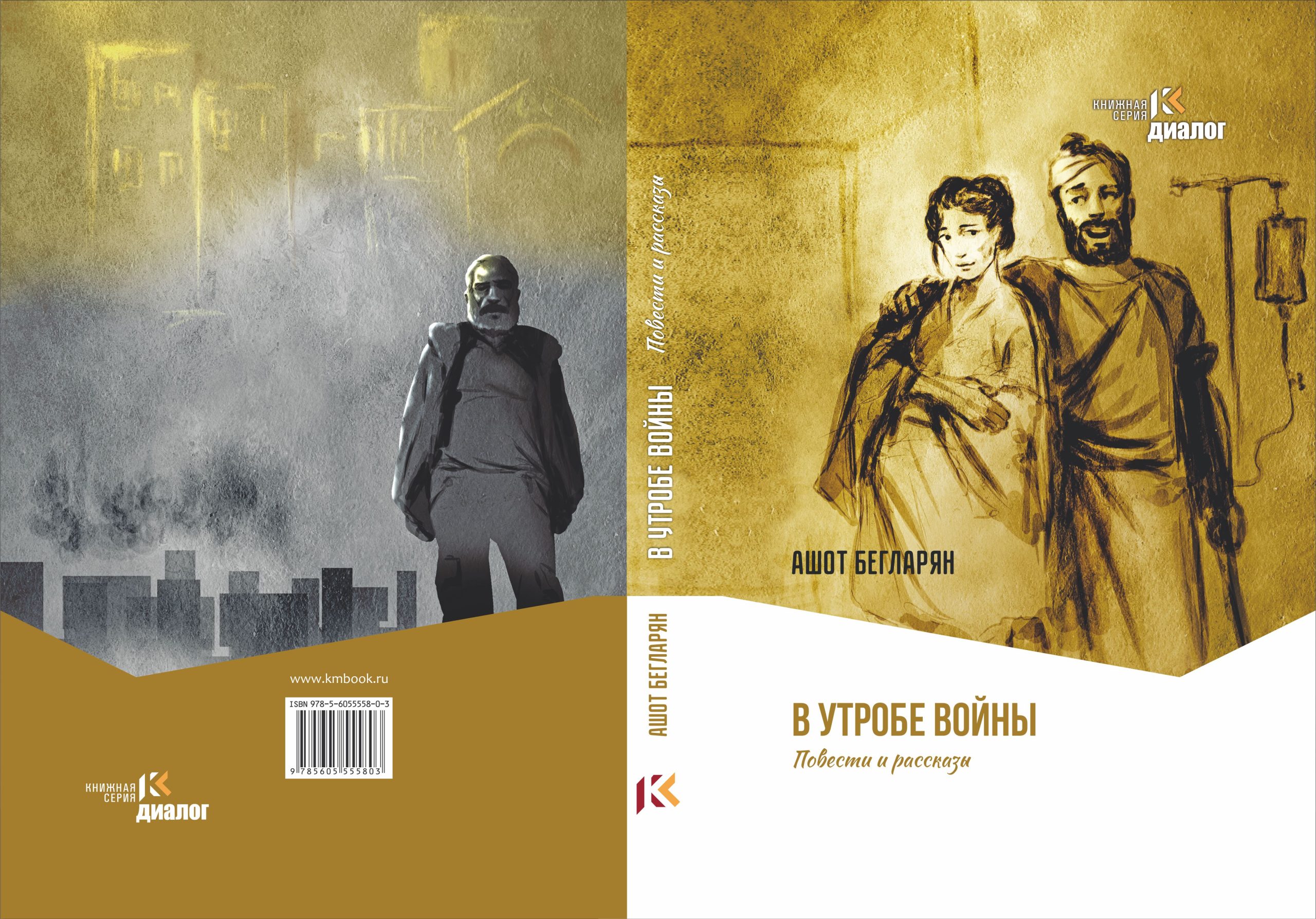Столетний юбилей обязывает к особому ритуалу. Формирует высокий слог, нечто вроде хвалебной оды. К тому же юбилейные даты такого рода, что там ни говори, навевают грустно-лирические мысли о скоротечности жизни.
НО ЕСТЬ И ДРУГАЯ СТОРОНА — ВЕДЬ ПОВЕЗЛО ЖЕ НАМ! Посчастливилось, что еще недавно рядом с нами жили на нашей жизни такие композиторы, как Арно Бабаджанян, Александр Арутюнян, Лазарь Сарьян, Эдуард Мирзоян, Адам Худоян, и так полно, так ярко осуществляли себя. Вот почему юбилеи мы воспринимаем как повод выразить свою благодарность замечательным художникам за радость общения с ними и их творчеством, за то, что они не уставали возрождать нашу любовь и веру в великую силу музыки.
И вот сегодня — стольник одного из представителей так называемой могучей кучки Армении — Адама Худояна, вписавшего свою, не менее яркую страницу в историю современной армянской музыки. Его музыка, брызжущая солнечным светом, полная ярчайших красок, поэтической одухотворенности, жизнерадостности, философских раздумий, никого не оставляет равнодушным. Он автор большого количества произведений различных жанров: симфонической и камерно-инструментальной музыки, песен и романсов, хоровых произведений, музыки для драматического театра и кино. Это своеобразный мир, в котором свои континенты. В истории современной армянской музыки он утвердил собственный стиль, почерк, творческую манеру. Его свойства — глубокая содержательность, взрывная эмоция, драматургическая насыщенность, многокрасочная гармоничность письма, проникновенная мелодия и ясность тематизма.
В каком бы жанре ни проявлял себя композитор, будь то виолончельный концерт, фортепианная рапсодия, соната, хоровая музыка, он непременно открывал новые горизонты жанра, новое качество.
 Адам Худоян был из тех людей, в которых заключено солнце, а потому и светятся они своим преображающим светом. В нем был дар быстрой импровизации, талантливо-детского, немедленного отклика на все, что мы зовем непосредственностью. Иначе разве можно было найти такие слова, которыми охарактеризовал всеми любимого композитора замечательный музыковед, профессор Ереванской консерватории Армен Будагян: «Адик был неповторим. Это был современный Горацио — преданный и нежный друг с улыбкой на лице и шуткой на устах. Это был новый Фигаро — всем нужный, вечно на помощь спешащий. Это был Тиль Уленшпигель наших дней — динамичный, насмешливый, всеми любимый. Адик — своего рода Остап Бендер: великий комбинатор. Только действовал он в обход собственных интересов. В творчестве умел быть сосредоточенным и немногословным. В жизни — наоборот… Невысокий и худощавый («Мой сорт такой!»), в чем-то артистичный и даже аристократичный, Адик был человеком широкой души и горячего сердца».
Адам Худоян был из тех людей, в которых заключено солнце, а потому и светятся они своим преображающим светом. В нем был дар быстрой импровизации, талантливо-детского, немедленного отклика на все, что мы зовем непосредственностью. Иначе разве можно было найти такие слова, которыми охарактеризовал всеми любимого композитора замечательный музыковед, профессор Ереванской консерватории Армен Будагян: «Адик был неповторим. Это был современный Горацио — преданный и нежный друг с улыбкой на лице и шуткой на устах. Это был новый Фигаро — всем нужный, вечно на помощь спешащий. Это был Тиль Уленшпигель наших дней — динамичный, насмешливый, всеми любимый. Адик — своего рода Остап Бендер: великий комбинатор. Только действовал он в обход собственных интересов. В творчестве умел быть сосредоточенным и немногословным. В жизни — наоборот… Невысокий и худощавый («Мой сорт такой!»), в чем-то артистичный и даже аристократичный, Адик был человеком широкой души и горячего сердца».
В конце жизни А. Худоян написал свои воспоминания. С присущей ему непосредственностью рассказал о себе, о своем творчестве, о встречах с руководителями республики и виднейшими деятелями культуры.
Вниманию читателей представляем небольшой отрывок из книги «Воспоминания».
…Детство мое было безмятежным. Предоставленные самим себе, мы с соседскими ребятами устраивали набеги на фруктовые сады, в которых буквально утопал старый Ереван, запускали традиционный волчок, играли в прятки, лахты, хаваллу.
Помню аромат персиков, конку, осликов, груженных огромными корзинами. Помню летний ереванский зной, пыльные по щиколотку улочки с арыками по краям, крики босоногих мальчишек с глиняными кувшинами, продающих холодную воду по копейке за кружку..
Запомнились поистине всенародные похороны композитора Александра Спендиарова, которые я, тогда семилетний ребенок, наблюдал, взобравшись с мальчишками на дерево.
Часто отец брал нас в деревню. Он возродил расположенное близ Еревана заброшенное село Гойгумбет. Благодаря отцу здесь нашли пристанище многие его земляки-шарурцы, вынужденно покинувшие родные края. В честь отца село было переименовано в Гегаманист («Село Гегама»). Здесь на скромном кладбище покоятся мои родители и многие близкие родственники.
Бабушка моя по материнской линии, Мариам, имела в Ереване большой фруктовый сад на том самом месте, где впоследствии был построен так называемый Народный дом (в этом грандиозном здании разместились Оперный театр и Большой зал филармонии). В связи с начинающимся строительством Народного дома к бабушке неоднократно заходили автор проекта Александр Таманян (считаю его гениальным архитектором) и председатель Ереванского горсовета Арамаис Ерзнкян. Они просили, чтобы бабушка для получения компенсации оценила свой сад.
Бабушка Мариам, женщина хотя и простая, но от природы мудрая, ощущала значительность момента. Угощая гостей чаем с вареньем собственного приготовления, она говорила: «Если это Народный дом, если это для народа, о какой компенсации может быть речь?»
Так началось строительство этого уникального сооружения. Проживая в непосредственной близости (дом наш стоял на месте нынешнего «Лебединого озера»), я наблюдал все стадии этого строительства. Сегодня трудно поверить, что почти все делалось вручную: рытье гигантского котлована под фундамент (основание стен — двухметровой толщины), подвоз вагонеток с камнями, замешивание бетона в специальных бассейнах и т.д. Лишь позднее были установлены камнерезные машины, работающие на электричестве.
Большие усилия к организации строительства прилагал тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Армении Агаси Ханджян.
До сих пор горжусь благородным поступком бабушки. И сегодня, посещая Оперный театр или Большой зал филармонии, не могу отделаться от мысли, что вот здесь, на этом месте, прошли счастливые дни моего детства.
ШКОЛА ИМЕНИ ГОРЬКОГО, ГДЕ Я УЧИЛСЯ, НАХОДИЛАСЬ тогда близ Панаханской площади (позднее — площадь имени Азизбекова, ныне — Сахарова). Поблизости помещалось издательство «Арменгиз», главный редактор которого, знаменитый поэт Егише Чаренц, направляясь на работу, часто останавливался и наблюдал наши мальчишьи игры, ссоры, драки… Порой он даже пытался нас раззадорить. Казалось, это доставляло ему своеобразное удовольствие.
В школе уроки литературы очень интересно вел известный поэт, всеми любимый Согомон Таронци. Он организовал школьный литературный кружок. Наши стихи (и мои) печатались в газете «Пионер канч». Школьный пионерский отряд носил имя Агаси Ханджяна, и сам он нередко бывал на собраниях нашего литературного кружка. Приходили также Чаренц и некоторые другие писатели.
…Трагический 1937 год для многих в Армении начался еще в 1936 году, когда «покончил самоубийством» Агаси Ханджян (в моем окружении шепотом передавали, что его застрелил в Тбилиси в своем кабинете лично Берия). По Армении прокатилась волна репрессий. Многие мои товарищи, как и я, оказались «детьми врагов народа».
В наш класс был переведен Мишик (Микаэл) Сагиян — племянник известного фтизиатра Григория Михайловича Сагияна (Сагиян был личным врачом Агаси Ханджяна, и одним из первых был уничтожен в подвалах НКВД).
Как-то Мишик, с которым мы сразу сдружились, предложил зайти к ним домой, отобрать из библиотеки какую-нибудь книгу и отнести в подарок Согомону Таронци. Идея пришлась мне по душе. В сыром подвале, куда после ареста его родных была свалена богатая сагияновская библиотека, Мишик отобрал книгу Раффи «Искры», да еще с дарственной надписью самого автора (Раффи тогда был строжайше запрещен).
Не желая идти к любимому учителю с пустыми руками, я (чего уж скрывать!), воспользовавшись подвальной темнотой, «присвоил» первую попавшуюся книгу сагияновской библиотеки, уже на улице обратив внимание на ее красивый переплет с «мраморными» прожилками (название я в спешке так и не прочитал).
Придя к Таронци, Мишик вручил ему книгу Раффи, а я, улучив момент, — «свою» книгу.
РАССМОТРЕВ КНИГИ, ТАРОНЦИ БЕРЕЖНО ПОЛОЖИЛ ИХ НА ПОЛКУ. Помрачнев, он как бы между прочим сообщил, что за последнее время вынужден был сжечь многие книги из своей библиотеки.
Я знал, что в то время уже были арестованы писатели Ваан Тотовенц, Алазан, Мкртич Армен, Гурген Маари, Азат Вштуни и другие известные деятели культуры. Я встречал членов их семей в приемной НКВД. Несчастье сблизило наши семьи.
Вскоре после случая с книгами я встретил на улице Согомона Таронци вместе с Чаренцем. Представив меня поэту, Таронци сказал, что «ту книгу» получил в подарок от меня, и добавил, что я активист его литературного кружка.
— Пишешь стихи-мстихи? — несколько иронично поинтересовался Чаренц.
— А ты прочти свое последнее четверостишие, — вступился за меня Таронци.
И я, 16-летний юноша, застеснявшись и опустив голову, прямо на улице продекламировал:
Устал я от мира,
А мир — от меня.
И все же всегда
Неразлучны мы в жизни.
Чаренц поднял вверх указательный палец и воскликнул:
— Согомон! Это философ!
Потом они взяли меня с собой в ресторан гостиницы «Интурист» и угостили рюмкой коньяка, чашкой кофе и арбузом…
Больше я Чаренца не видел. Он разделил трагическую судьбу многих своих современников.