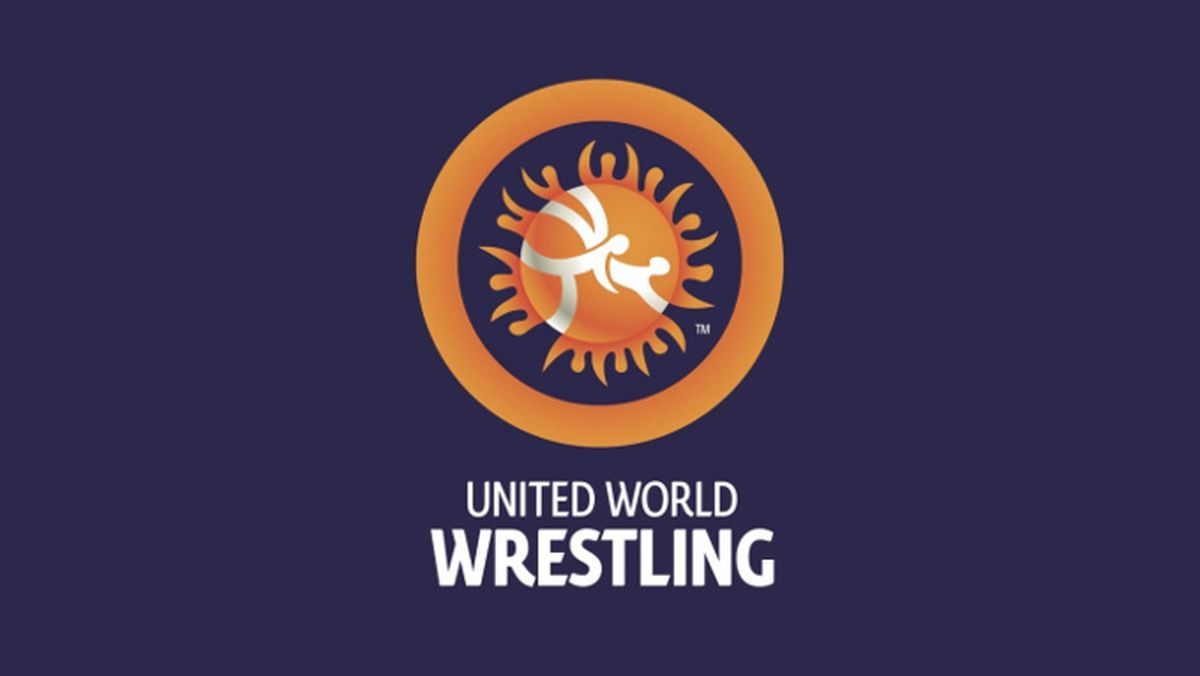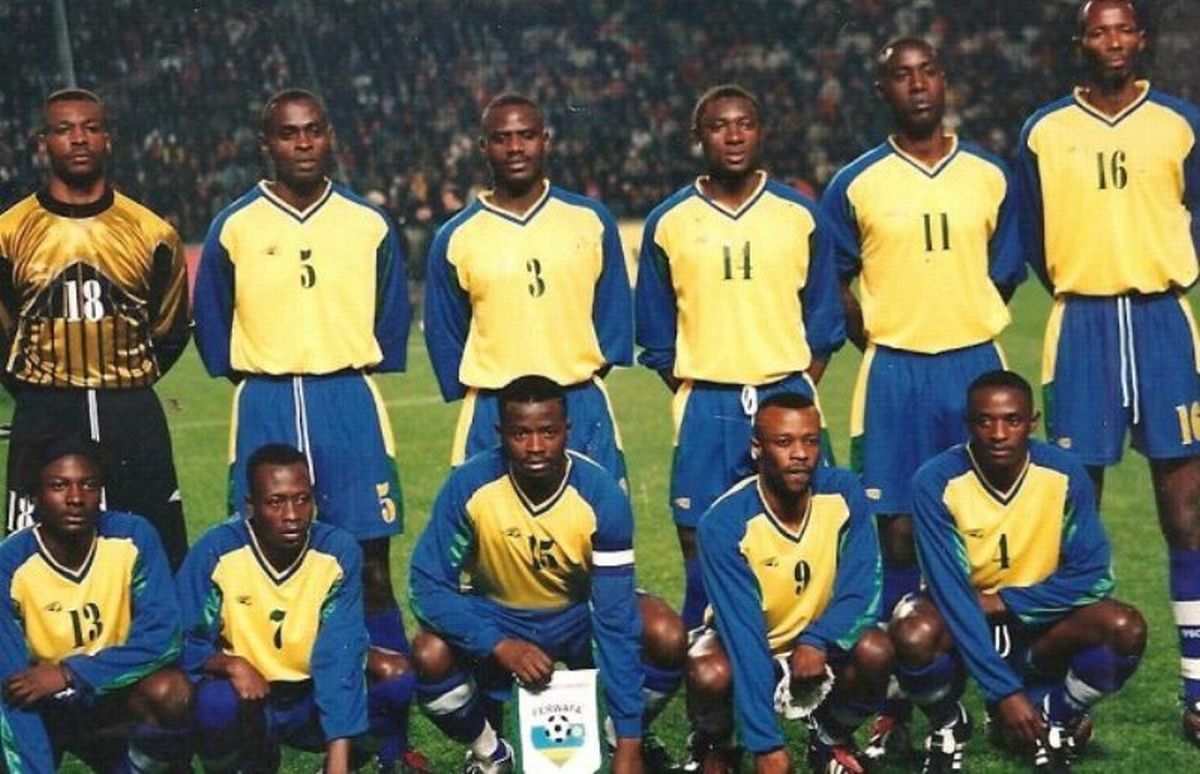"Танго нашего детства", "Песнь прошедших дней", "Август", "Армянские фрески", "Господи, помилуй". И еще тридцать с лишним фильмов, добрая половина которых вошла вехами в историю национального кинематографа уже навсегда. Всех их объединяет одно имя — Рудольф ВАТИНЯН. Замечательный оператор и соавтор многих жемчужин армянского кинематографа отметил на днях юбилей.
НЕТ В КИНО ИНОГО БОГА, КРОМЕ РЕЖИССЕРА, И ОПЕРАТОР — ГЛАЗ ЕГО. Глаза Рудольфа Ватиняна, зеленые и немного усталые, его спокойная, деловая манера разговора без стремления обволакивать его "густым кинематографизмом", а точнее, артистическим величавым позерством особенно остро напоминали о величии мировой и отдельно армянской киноклассики, о великой ценности острого и несгибаемого авторского стиля, а также намекали на творческое наследство, от которого не стоит отказываться.
Недавно в телеинтервью Карен Шахназаров говорил о том, что главная проблема сегодняшнего российского кино в том, что вариант, когда парень из далекого Алтайского края по имени Василий Шукшин поступает во ВГИК, абсолютно исключается нынешними реалиями… В ту, прошедшую эпоху армянский парень из Дилижана по имени Рудольф Ватинян во ВГИК поступил.
"Меня с детства увлекали разные виды творчества. Ходил в дом пионеров во все кружки — рисования, лепки. С мировой живописью знакомился по цветным вкладышам журнала "Огонек". Потом увлекся фотографией. А как-то товарищ, который мечтал стать актером, принес условия приема во ВГИК и спросил, не хочу ли я выучиться на оператора. У меня что-то щелкнуло в голове. Я поехал в Москву. ВГИК искал четыре часа. Когда наконец нашел — испугался: зачем я пришел? Кругом столичные ребята, по коридорам ходят живые классики. Действительно храм кино. Это совершенно другие ощущения, которых сегодня нет. Поступал три года. Наконец попал на курс к великому мастеру Борису Волчеку, который снимал все фильмы о Ленине. Гениальный был преподаватель".
Первая же работа Ватиняна — дипломный фильм "Бондарь" — удостоилась приза "За достоверность" на международном фестивале в германском Оберхаузене, а вместе с ним нарисовала для заявившего о себе оператора перспективу остаться в Москве. Но… "Я был дилижанский парень, не городской — Армения, Родина, армянское кино. Другие у нас были представления". Ватинян вернулся и попал вторым оператором на картину Юрия Ерзнкяна "Хатабала". А по завершении картины Ерзнкян предложил работать вместе.
 ТАК ВАТИНЯН СНЯЛ "АРМЯНСКИЕ ФРЕСКИ", "ЭТОТ КРАСНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ МИР" — И ВОШЕЛ В ПРОФЕССИЮ. Ерзнкян, а вослед за ним другие режиссеры, которые остались в истории армянского кино художниками, высоко ценили его светопись, умение ощутить и передать настроение каждой сложно ограненной мизансцены, безупречное чувство цвета, кадры, которые крупно, весомо и плотно оседали на пленке.
ТАК ВАТИНЯН СНЯЛ "АРМЯНСКИЕ ФРЕСКИ", "ЭТОТ КРАСНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ МИР" — И ВОШЕЛ В ПРОФЕССИЮ. Ерзнкян, а вослед за ним другие режиссеры, которые остались в истории армянского кино художниками, высоко ценили его светопись, умение ощутить и передать настроение каждой сложно ограненной мизансцены, безупречное чувство цвета, кадры, которые крупно, весомо и плотно оседали на пленке.
"Я работал с Юрием Ерзнкяном, Кареном Геворкяном, Альбертом Мкртчяном, Вигеном Чалдраняном, Арутюном Хачатряном. Если режиссер по-настоящему режиссер, вопрос его авторского диктата не стоит. Любой режиссер понимает, что фильм — это изображение, качество которого должно быть высоким. Все лучшие режиссеры работали с лучшими операторами: Довлатян — Явурян, Малян — Исраелян, я с некоторыми режиссерами. Это — человеческие отношения, это — престиж профессии, искреннее желание что-то сделать. "Этот красный зеленый мир", "Август", кстати, за "Август" я получил премию на фестивале в Киеве. "Танго нашего детства", "Песнь далеких дней", картина Вигена Чалдраняна "Господи, помилуй", за которую я тоже удостоился премии. С тем же Кареном Геворкяном снял на студии Довженко "Пегий пес, бегущий краем моря" — интересный большой фильм, который, к сожалению, тут не смотрели. Были фильмы, которыми я могу гордиться. Я люблю эмоциональное кино, человеческие отношения. Бывают "красивые" картины, и если красивость — не самоцель, это тоже интересно. Кино — это язык. Бывает, фильм не получился, а операторски — блестящая работа. Вот Урусевский, классик, который снимал "Летят журавли". Он потом сделал "Я — Куба". Фильма как такового вроде бы нет, но феноменальная операторская работа. Или вот Редберг, который работал с Тарковским. Почему я его люблю? Я не понимаю, как он снимал. Не понимаешь, как он этого добивался! Этот взгляд, это ощущение, это соприкосновение, то, что характерно только для него и что никто не может повторить. В искусстве самое ценное — это открытие".
Они делали кино. То кино, от которого, не в пример нынешнему, так или иначе обслуживающему спрос, исходили эмоции и мысли, вызов и соблазн. То кино, которое нынче принято называть большим и говорить о нем в прошедшем времени. Усталые люди, некогда выплеснувшие на экран свое интимное, человеческое, чьи работы, несмотря на все сметающий на своем пути технический прогресс, как рукописи — не горят. И кто сомневается, что еще не одно поколение армян будет утирать слезы, глядя в бездонные глаза Гали Новенц из "Танго нашего детства", выхваченные чутким глазом Рудольфа Ватиняна.
"Есть молодые операторы, которые хорошо работают. Но того, что было, уже нет. Есть фильмы, которые время от времени так или иначе снимаются, но это не технология, не студия, не кинопроизводство. Мы снимали на пленке. Это имело свою сложность, свою специфику и свои привлекательные стороны. Сегодняшний кинематограф технически убежал далеко вперед, а мы можем видеть это только с экрана в чужом исполнении. Потому что там непрерывное технологическое производство и другие требования — там большие деньги и большое телевидение. Там конкуренция между телеканалами, которой у нас нет — лишь бы время заполнить. Там большие актеры, много сценаристов, большая литература. Это все — составляющие производства, а только оно может обеспечить достойный средний уровень.
 В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ, КОГДА "АРМЕНФИЛЬМ" РАБОТАЛ БЕЗ СБОЕВ, редко появлялись очень плохие фильмы. Зато рождались картины, которые остались навсегда. Сегодня технология стала выразительным средством фильма. Не драматургия, а технология. Вот "Аватар", 3D — примитивнейший сюжет. Но смотрят же люди, интересно. Хотя, мне кажется, это временное явление. Все равно возвратятся к истокам. Я уже два года ничего не снимал. И до этого был порядочный люфт. Уже не интересно. И потом — это физический труд. Раньше он был интересный, а сейчас никчемный — сидеть, ждать, бегать, этого нет, того нету… Я снял тридцать пять фильмов, иногда делал по два фильма в год — это слишком много. Ну молоды были. Сейчас не то — не тот интерес, не те режиссеры, не тот материал. Сейчас время молодых, которые должны себя показать. Мы — поколение, которое ушло".
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ, КОГДА "АРМЕНФИЛЬМ" РАБОТАЛ БЕЗ СБОЕВ, редко появлялись очень плохие фильмы. Зато рождались картины, которые остались навсегда. Сегодня технология стала выразительным средством фильма. Не драматургия, а технология. Вот "Аватар", 3D — примитивнейший сюжет. Но смотрят же люди, интересно. Хотя, мне кажется, это временное явление. Все равно возвратятся к истокам. Я уже два года ничего не снимал. И до этого был порядочный люфт. Уже не интересно. И потом — это физический труд. Раньше он был интересный, а сейчас никчемный — сидеть, ждать, бегать, этого нет, того нету… Я снял тридцать пять фильмов, иногда делал по два фильма в год — это слишком много. Ну молоды были. Сейчас не то — не тот интерес, не те режиссеры, не тот материал. Сейчас время молодых, которые должны себя показать. Мы — поколение, которое ушло".
Но пока люди большого кино еще работают, дверь в великое прошлое еще не захлопнулась окончательно для не решающихся или не умеющих принять наследство. Дверь, из которой, по законам искусства, и начинается дорога в будущее. Рудольф Ватинян, основатель кафедры операторского искусства Государственного института театра и кино — часовой у той, открывающейся в две стороны двери.
"Если упрощенно, я учу уметь отвечать на три вопроса: что, как, для чего? Если студент может, исходя из своей одаренности и видения мира, на них ответить, значит, мы его чему-то научили. И если опять возродится кинопроизводство, они свое место найдут. Потому что талант всегда востребован. Так не бывает, чтобы талант не заметили — это исключается. А пока наши студенты работают в основном на телевидении. Если там повысятся критерии, начнется поиск талантов. К серьезным темам, особенно к классике, нужно обращаться, когда ты знаешь, зачем это нужно. Что ты хочешь сказать своему народу, возвращаясь назад. А когда этой задачи нет, есть просто вопрос экранизации — ничего не получится.
СКОЛЬКО РАЗ ЭКРАНИЗИРОВАЛИ "ГАМЛЕТА"! Но картина получалась тогда, когда действительно было что новое сказать. Это можно делать тогда, когда ты задаешься вопросами — как мы живем, для чего живем, каков наш главный национальный интерес. Я сам себе этот вопрос задаю постоянно. Что за страну мы строим? Не понимаю. Не знаю. Хотя я должен знать. Вот у нас славное военное прошлое. Столько героев, сколько армяне, если исходить из количества населения, ни одна другая нация в войну не дала. И вдруг мы сегодня наплевали на это прошлое. Нам нечего сказать сегодняшнему поколению — кто были наши деды, отцы. А это все цепочка. В результате у нас нет ни одного достойного художественного фильма о Карабахской войне. Какая у нас идеология? А искусство напрямую с ней связано. Кто говорит — нет, он лукавит".
На вопрос, картину в какой стилистике ему хотелось бы снять, появись возможность, художник ответил: "Обыденность, обыкновенность этой жизни начинает угнетать. Хотелось бы сделать картину очень красочную, радостную. Фейерверк красок, цвета".
Рудольфу Ватиняну — 60. Всего 60. У него еще много времени на воплощение своего желания. Кто знает? Ведь пока люди большого кино работают, дверь из большого прошлого в большое будущее открыта.