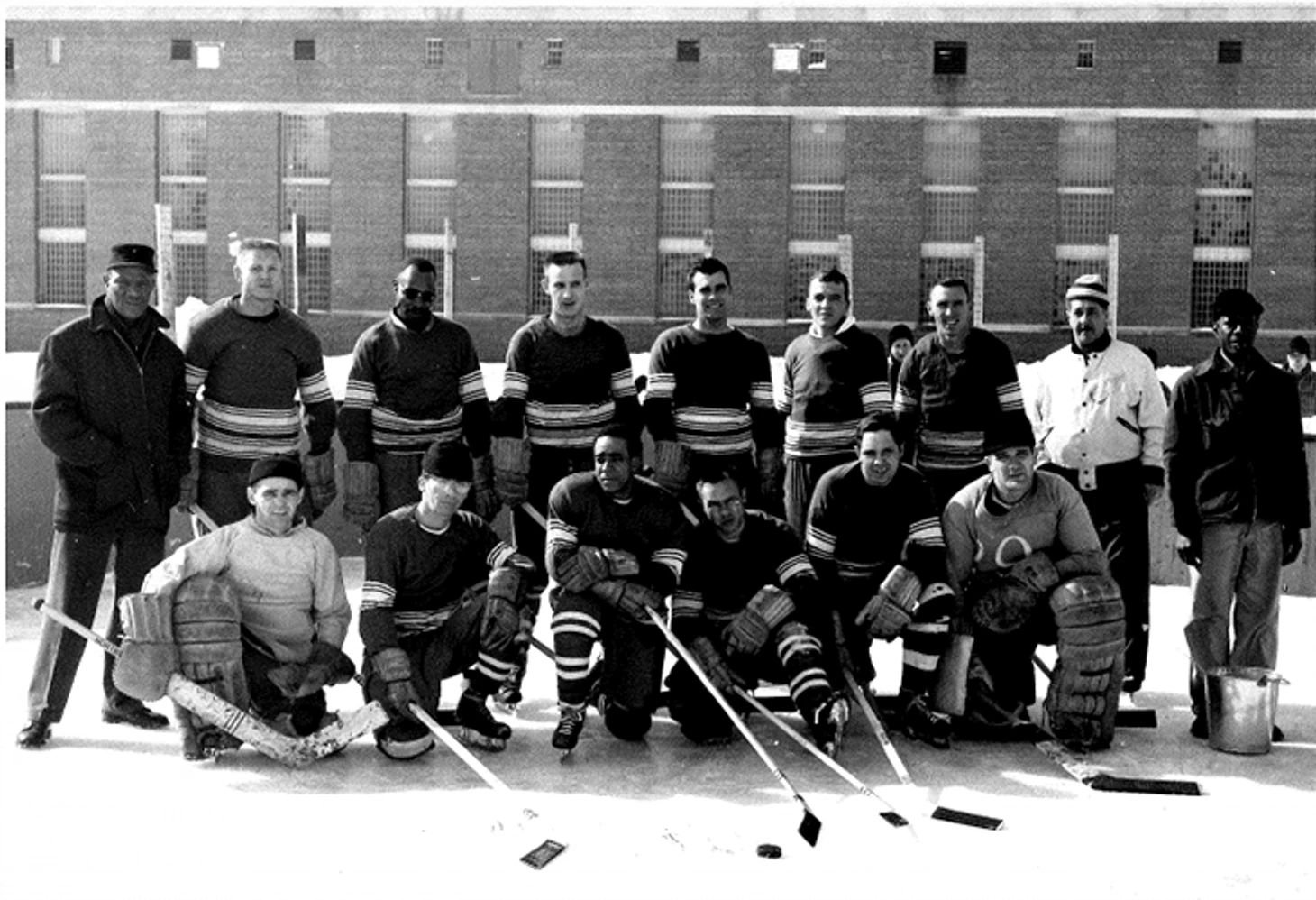Он парадоксален, нередко вызывает противоречивые чувства, но это сильная личность, имеет свой взгляд на все, что делает, делая это без выкрутасов. Это ведь всегда заметно, когда человек хочет быть оригинальным и когда он оригинален по своей сути. Главное же, у композитора, лауреата Государственной премии РА Рубена САРКИСЯНА — живой, открытый, не заштампованный взгляд на мир.
Нельзя утверждать, что, беседуя с вами, он ежеминутно сообщает нечто необычное. Вовсе нет. Но он говорит от себя лично, а потому сказанное им всегда свежо и убедительно. Конечно, не со всеми его доводами можно согласиться, но надо ли доказывать, что, если бы не высказывались различные взгляды, не из чего было бы выбирать наиболее близкое к истине.
— Рубен, что вас тревожит в сегодняшней музыкальной жизни?
— Прежде всего резкое сокращение исполняемых произведений современных авторов. Многие коллективы благополучно "выезжают" на классике, исполняя ее на приличном уровне далеко не всегда. Подобная тенденция имеет мало общего с задачами подлинного искусства. Бывают, конечно, и исключения, но это исключения из правил. Между тем еще два десятилетия назад симфонические произведения армянских композиторов пусть редко, но все же попадали в программы оркестров.
— Ваша оценка современного состояния композиторского творчества. Что приемлемо в нем для вас и что нетерпимо?
— Приемлема талантливость, нетерпима бездарность.
— Афористично. Но подробнее — каково его состояние?
— Я убежден, что армянская музыка должна сохранить свой национальный облик, но в современном понимании этого определения. Композитор — не только современник слушателей, но и в определенном смысле "вестник из будущего". Он обязан быть этим вестником. Так было всегда, и история музыки показывает, что динамика развития музыкального искусства определяется направленностью поиска композиторов и исполнителей.
— Не кажется ли вам, что сегодня смысловая наполненность музыки начинает исчезать? Композиторы все чаще увлекаются коллажными, фактурными вставками…
— С годами я убедился в том, что есть только одна правда в искусстве — это правда художника, которому есть что сказать. Но чтобы что-то сказать в искусстве, надо быть личностью, уметь сопереживать, принимать на себя чужую боль. Это было нормой и правилом жизни таких деятелей культуры, как Шостакович, Хачатурян, Паруйр Севак, Минас… Казалось бы, разные по своему менталитету, по своей творческой харизме, они проповедовали главную истину искусства — обнажать боль, трагизм и драматизм своего времени. И осмысливать отношение к ним как к неотъемлемой нравственной составляющей человека на Земле. Когда-то Малер говорил, что сердце художника — камертон, на котором играет Вселенная. Это понятие является глубоко чуждым для многих нынешних авторов, тем более что компьютерная технология способна создавать нечто звукообразное, не неся при этом никакой ответственности. Так что технологическая сторона совершенно ни при чем. Она существует сама по себе. Никакая технология не спасет от убожества мыслей.
Недавно вновь слушая Луи Армстронга, я почувствовал: сила этого человека в том, что его душа была переполнена музыкой, ему было что петь. Даже мимика его лица выдавала художника, генетически аккумулировавшего в себе всю историю своего народа и сумевшего это гениально передать. Поэтому я иногда говорю, что признаю только один тип композитора — биологический. Биологическими были Арам Хачатурян, Арно Бабаджанян — композиторы, творившие как вулкан. Природная сила — она причина и следствие одновременно. Какое-то непроизвольно самоизлучающее творческое состояние. Поэтому я говорю, что если нечего сказать, лучше замолчать.
Что же касается технологии, то она доказала полную свою несостоятельность. Что осталось от авангарда? Практически ничего. Вся эта технология сегодня предается забвению, потому что она практически бесплодна и ничего не дает.
— Рубен, вы не находите, что ситуация в культуре меняется в лучшую сторону?..
— У меня субъективное восприятие ситуации: я ее оцениваю как музыкант. По-моему, музыкальная ситуация весьма печальна, она зеркально отражает ситуацию в республике. Причину я вижу в том, что в течение истории Армении менталитет нации мутировал в сторону крайнего индивидуализма. И сегодня каждый армянин воображает себя королем Людовиком, воскликнувшим: "Государство — это я!". Этот крайний субъективизм порождает крайне наплевательское, снисходительно-высокомерное отношение к другому коллеге в искусстве или в других областях, что и губит страну. К этому добавляется еще общая ситуация в мире, которая так или иначе просачивается в республику. Этим объясняются огромные пробелы в системе образования. К примеру, для студентов — будущих композиторов и вообще музыкантов литература существует только на русском языке, она не переведена. А большинство студентов сегодня уже не владеют русским, значит, эта литература им недоступна. У нас нет многих фундаментальных работ по социологии музыки, которыми пользуются студенты других консерваторий. В результате наши студенты пребывают где-то в каменном веке. Если бы Армения была двуязычной республикой, этот пробел можно было бы преодолеть.
Мы отгорожены от внешнего мира, и это при внешнем стремлении интегрироваться в этот мир. У нас есть мания самозамкнутости, за это приходится расплачиваться бегством из республики. Идет деградация наших культурных ценностей. Чтобы убедиться в этом, достаточно послушать, что звучит сегодня в нашем эфире: все отдано на откуп шоу-бизнесу, безвкусице, телевизионной пошлости. Армянские композиторы — Спендиаров, Хачатурян, Егиазарян, Оганесян и целый ряд других авторов практически не звучат. И к этому добавлю чуть ли не ненависть к армянской музыке, которая бытует среди наших музыкантов, которые считают ее второсортной. Не случайно такие композиторы, как Хачатурян, Бабаджанян, Тертерян, получили широкое признание далеко за пределами Армении. Ряд композиторов так бы и умерли в безвестности, не будь у них возможности исполняться за рубежом. Здесь наша музыка никому не нужна. Я говорю об этом с горечью. Попытка композиторов спасти ситуацию обречена на провал. Чтобы к художнику относились с должным уважением, необходимо менять менталитет нации.
— Сегодня общество становится менее духовным. Чем вы это объясняете?
— Я много об этом думал и обратился к некоторым источникам философского порядка. В них говорится о том, что весь цикл земной цивилизации, который мы сегодня переживаем, образовался в эпоху Возрождения, и эпоха гуманизма подходит к своему завершению. Сейчас начинается новая эпоха — эпоха дегуманизации. Она отвергает все свое гуманистическое прошлое и вместе с этим уничтожает все способы создания подобной культуры. Это страшный удар по поколению, которое работало, опираясь на гуманистические традиции. Свою решающую роль в этом сыграли и две величайшие войны XX века, породившие беспрецедентный цинизм, жесткий рационализм, терроризм, плоды которых мы сегодня пожинаем. Дегуманизация — флаг нашего времени, а экономика определяет все.
В XIX веке Лев Толстой был заместителем Бога на Земле, а сегодня — компьютер: на него молятся, он определяет все. А это преступление, ибо нигде не было указано на грядущий кризис всего гуманизма. Человек сделал это своими руками, и он ответит перед грядущим судом. Безусловно, это произойдет. Ведь не случайны сегодняшние чудовищные социальные конфликты, катаклизмы. Ужасающая жестокость, царящая сегодня в мире, заряженном ненавистью, обернется взрывом. Не случайно фашизм появился в XX веке. После него даже смешно говорить о средневековых жестокостях, ибо он продемонстрировал такую глубину падения человека, что нельзя предположить что-либо хуже. И сегодня мы живем в ситуации взаимного устрашения, пока это не будет устранено — ничего не изменится.
— Рубен, время тонких людей проходит?
— Видимо, да. Порядочность, доброту я ставлю сегодня выше интеллигентности. Время великих интеллигентов, когда люди шли на жертвы ради высоких целей, прошло. Так, например, когда Рахманинов хотел уехать из Швеции в Америку и у него не было средств, к нему пришел богатый человек, влюбленный в его музыку, и предложил огромную сумму денег. Это спасло композитора. Это пример врожденной интеллигентности. Такого сегодня не встретишь. Пусть превалирует доброта. Именно она — а не красота — сегодня спасет мир.
— Каким вам видится будущее нашей композиторской молодежи?
— У нас есть одаренная молодежь, но это не заслуга нашего руководства, нашей демократии. Наш народ способен порождать таланты. Слава богу, это еще не находится в ведении управляющих человеческими способностями. Или они еще не научились до конца зомбировать людей. И то, что молодые таланты преисполнены надежд, вызывает у меня и оптимизм, и острую жалость к ним, потому что не известно, что будет с ними. Пессимизм мой вызван полнейшим равнодушием к той продукции, которая у нас еще создается. И потому я спокойно отношусь к тому, что они уезжают. Дай бог им удачи. К сожалению, наша республика все время стремится к изоляции. Это самый порочный путь. Возможно, если бы мы еще были способны бороться с недостатками, может, что-то и удалось бы изменить. К сожалению, мы только приспосабливаемся… И это становится нормой. Когда прибегают к элементарной эксплуатации, то нельзя рассчитывать на то, что кто-то выдаст полноценную продукцию. Надо вкладывать средства, чтобы была отдача.
Почему Запад отличается передовой технологией, несмотря на то что у него есть свои сложности? Потому что народы Запада своими руками завоевали свою демократию, выстрадали свои права кровью тех людей, что шли на баррикады. А у нас в бывшем СССР нам сказали: "Завтра вы можете выйти на митинг". Вчера нам запрещали говорить о Карабахе, сегодня разрешили. Это право народ не завоевал, а получил как милостыню. А вообще чем больше будет создано условий, унижающих человеческое достоинство, тем меньше будет отдача. На этом пути нет прогресса. Меня в этом убедил Карл Маркс, которого на Западе очень почитают.