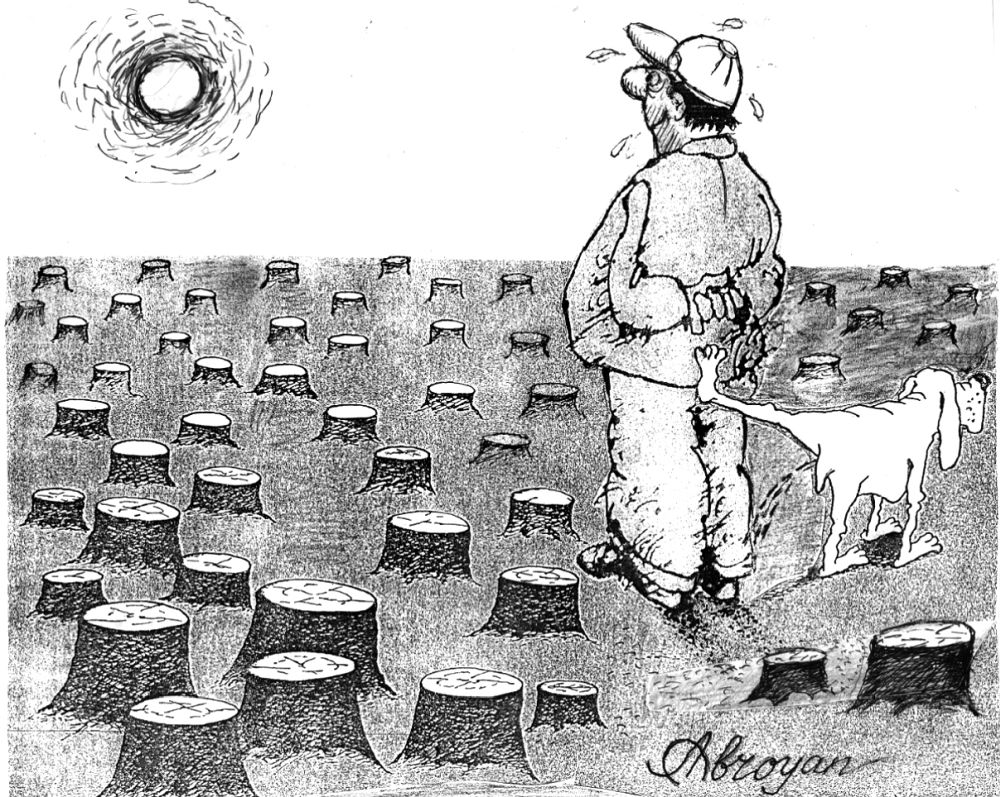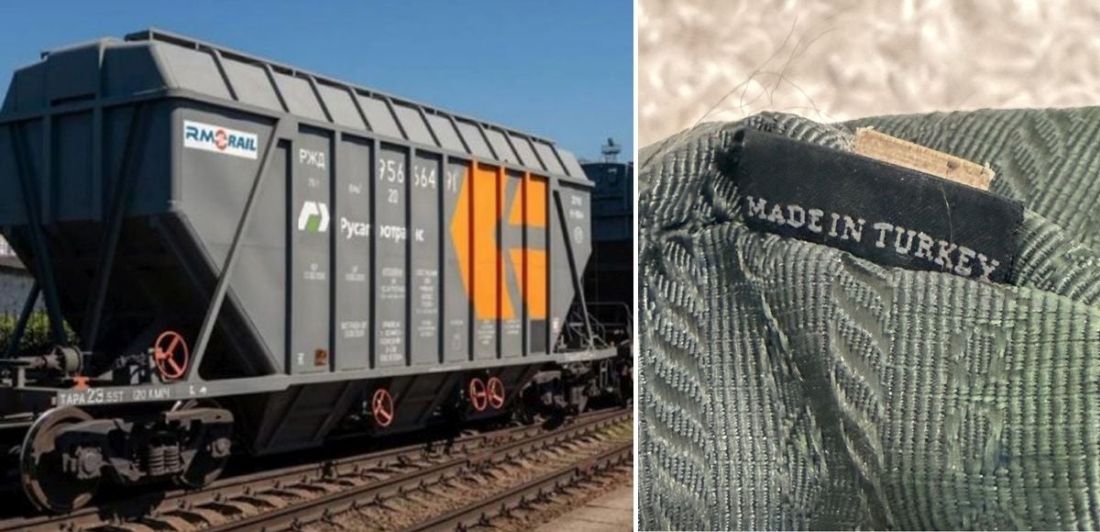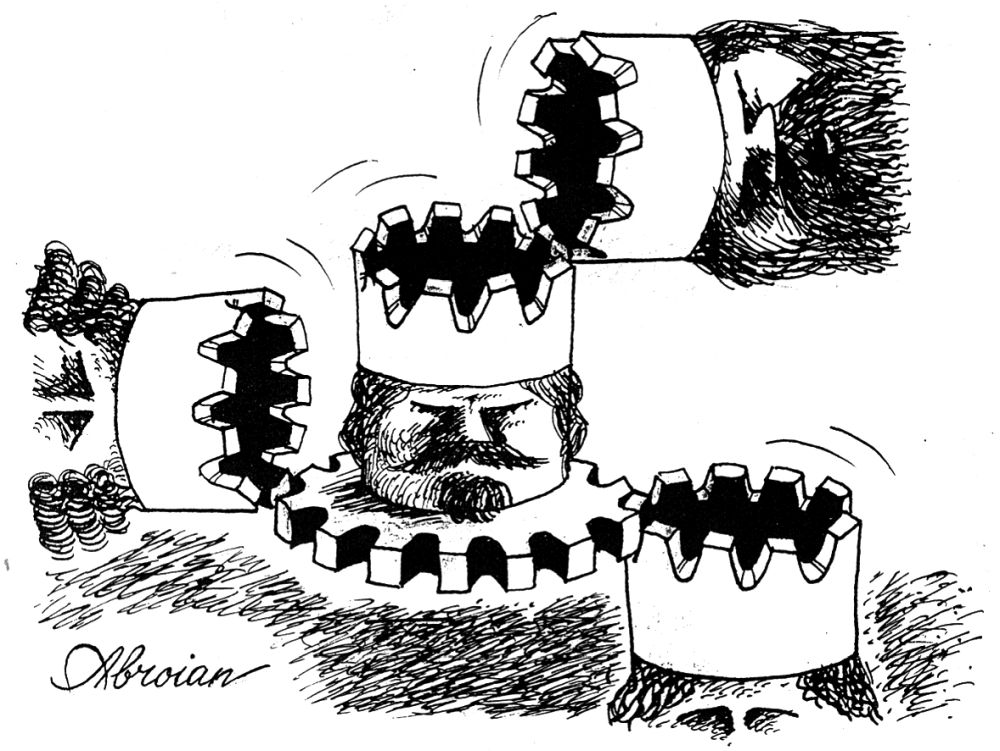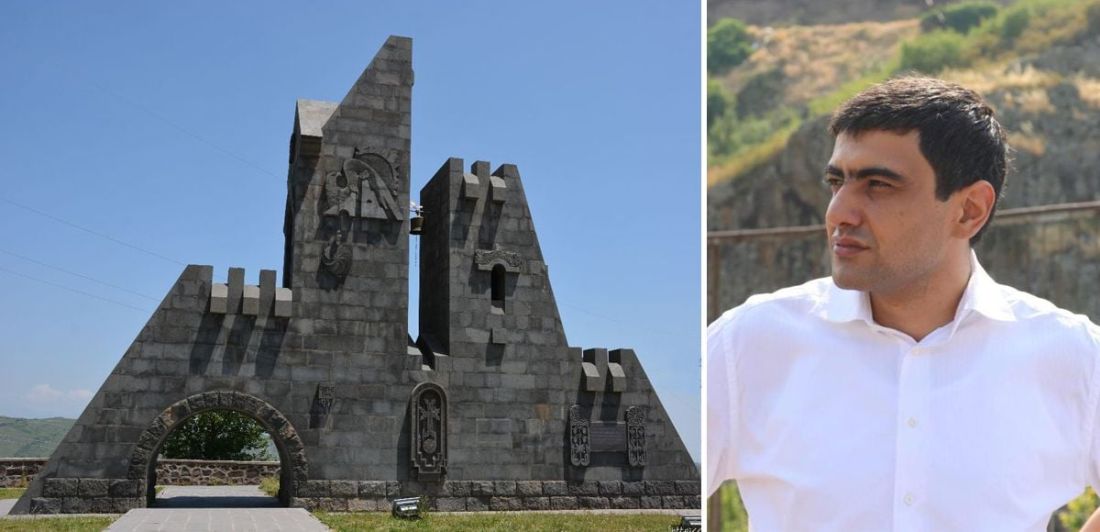«Весь мой творческий путь посвящен Армянину — его корням, его биографии, его многочисленным типажам. Я всегда пытался понять: кто мы? Кто он — Армянин? О чем он — Армянин? Про что мы живем, чего хотим, куда идем и как идем? И эта моя картина тоже об Армянине.
СЕГОДНЯ ОН РАСТЕРЯН — ВСЕ АРМЯНСТВО СЛОВНО потеряло себя, расколото и расчленено. Мы стали похожи на строителей Вавилонской башни — мы говорим на армянском, но не слышим друг друга. Мы смотрим друг на друга и друг друга не видим. Мы больше друг друга не уважаем. Мы друг друга не любим. Сегодня мы в яме… Но из ямы проповедовал Григорий Просветитель… Сегодня мы в опасности. Нас окружают враги, которые всегда готовы зарубить нас топором спящих — как Рамиль Сафаров в Будапеште зарубил армянского офицера.
Мы должны быть бдительными. Мы должны начать понимать, что мы солдаты — каждый на своем месте. Мы должны отыграться — но мудро, помня, что мы христиане. И совершить этот подвиг мы будем готовы только после того, когда забудем, что нас разделили на белых и черных», — говорил народный артист РА Микаел ПОГОСЯН, презентуя свой последний фильм «Հայ Հայը» в Лос-Анджелесе, в зале Lanterman Auditorium, в котором прошла американская премьера картины.
— Показ новой работы в Штатах…
— … — это уже традиция!. Наверное, я раз 25 был в США, и только в первый раз, в начале 90-ых, это была личная поездка. Все остальные — без того, чтобы презентовать какой-либо новый спектакль, фильм, я туда не ездил. Были даже проекты, премьеры которых проходили сначала там, а потом уже в Ереване. Хотя Америка никогда меня не прельщала, иначе я бы сто раз туда уехал. Но Лос-Анджелес — это квинтэссенция дружбы, мне там хорошо — приезжаешь и сразу входишь в ауру теплого отношения.
Без ложной скромности, я реально там популярен, у меня большой круг поклонников, впору фан-клуб открывать. Вообще, парадокс моей жизни заключается в том, что все мои самые близкие люди живут там. Ну и, не скрою, поездки в Америку — мой едва ли не единственный источник зарабатывания денег. Весь мой стабильный доход на родине — это 40 тысяч драмов за «народного артиста».
— После того, как мир перевернулся на «до» и «после» и, кажется, не только для нас, твоя тамошняя аудитория такая же заинтересованная?
— Я был там в последний раз почти три года назад, и был в другой Америке. И дело не только в том, что прежний лоск, как мне показалось, потерян. В нынешних условиях армянам там надо вкалывать вдвойне, чтобы содержать здесь родственников. И, увы, — очень много новых лиц.
С организацией показа тоже все стало сложнее — не было, как обычно, продюсерской организации, которая этим занималась, пришлось повкалывать самому. Представь, с задачей я справился — в «Lanterman Auditorium» почти на тысячу мест, где состоялась премьера, был полный аншлаг. Конечно, очень сожалею, что со мной не было членов съемочной группы. Зато Нарине Алексанян, наша замечательная актриса и одна из главных исполнительниц в фильме, уже полтора года в Лос-Анджелесе, ее даже не было на ереванской премьере, картину она не видела. Она пришла на показ, выступила — эксцентричная, истинная актриса, я ею просто восхищаюсь.
У меня, безусловно, было сильное волнение — как фильм воспримет публика. Ведь все-таки он если не специфический, то уж точно не типический в ряду моих работ. На показе присутствовал и Армен Амбарцумян, с которым мы начинали «Хатабалладу», «Ереван-блюз», и так далее — картина ведь посвящена юбилею «Хатабаллады». И конечно, впечатление Армена для меня было очень важно. Был один из самых дорогих для меня людей — Паргев Србазан. Вообще, 9 июня — Международный день друзей, и именно в этот день состоялась премьера, на которой присутствовало столько моих друзей.
— Этот фильм не просто стоит особняком в твоей биографии в плане некоего армянского самобичевания. В нем есть однозначно нелицеприятное отношение к нынешней власти, на которую в диаспоре, кажется, многие продолжают молиться…
— Это убийственно! Вплоть до того, что кто-то из близких людей, которые продолжают оставаться «свидетелями Никола», не подошел ко мне после показа. Даже не представляешь, что там в этом плане происходит. В первые дни меня просто третировали — «а что теперь»? Грешен, но в какой-то момент мне даже стало казаться, что все эти переживание, патриотизм, стали для них хобби.
Подобное чувство у меня было в начале 90-ых в Бейруте — люди возвращаются с работы, и у них начинается ностальгия по стране, в которой многие никогда не жили, включают армянскую музыку — и поехали… Когда ситуация такая, как сейчас, есть это напряжение, такая виртуальная любовь в какой-то момент раздражала. Потом отпустило, потому что понимаешь: они такие же армяне, так же болеют за родину и так же испытывают бессилие.
И на премьере со сцены я сказал — спасибо за ваш патриотизм, за ваше плечо, без всего этого нам было бы еще тяжелее. Не существует Диаспоры — есть армяне, и только в этом наша сила.
— Словом, в итоге картину приняли тепло?
— Были очень серьезные отзывы, но среди зрителей было и много и таких, кто не понял посыла фильма. Для меня эта работа действительно стоит особняком, и эту оплеуху мой, практически сквозной герой, заслужил еще в «Хатабалладе» — когда изнасиловал свою мечту, изнасиловал юную цветочницу. И в этом фильме, когда она уже не такая прекрасная и к тому же хромая, он от нее просто убежал…
И недостаточно просто сказать «я хочу все переосмыслить и стать счастливым» — надо прочувствовать эту пощечину. А потом очнуться и понять — все зависит от нас самих! Сатана-то никуда не делся, и только от нас зависит впустим мы его в себя еще раз, или нет. Хотя в финале картины я запустил какие-то позитивные фишки и текст Агаси Айвазяна — «У вечной нации и проблемы вечные», но это все слабое утешение… Сколько можно жить в розовых очках! Они разбиты, как у персонажа фильма…
В принципе, у меня все проекты были заточены на оптимизм — казалось, он во мне непотопляем. Но последние события просто выжгли этот оптимизм.
— С чего бы? Оглянись — все довольны и даже счастливы!
— Ты вообще понимаешь, что происходит?! Приехал — и не знаю, как жить дальше. Я даже представить не мог, что могу почувствовать себя эмигрантом в своем городе! Не то, что Ереван стал для меня инородным, он не может стать инородным, — это я стал для Еревана инородным! И не знаешь, как этому Еревану помочь, и не только Еревану.
Ладно, у меня был творческий выброс, я сделал фильм — плохо ли-хорошо, высказал то, что думаю. А дальше — что? Вот у меня в «Лорике» актер через веру в чудо не дает умереть больной девочке. Но какая вера в чудо может помочь в этой ситуации? Эти «николы» уже в печенках! Беспросветно… И уже никакие чудеса и искусство не придумываются.
— А вот в это позволь не поверить. Признайся, что-нибудь в недрах воображения да зреет.
— Если совсем честно, то да. Еще до моей поездки мы с Вигеном Чалдраняном, который сейчас тоже в Лос-Анджелесе, стали активно общаться, начали восстанавливать свои дружеские территории — все-таки мы прошли очень серьезный человеческий и творческий путь. И на мой взгляд, свои лучшие роли я сыграл именно в сотворчестве с Вигеном.
Сейчас он живет там в гордом одиночестве, пишет книгу — такое творческое кинозамещение. Но рано или поздно он непременно приедет. Вместе мы нацелились на Нарекаци. Есть сценарий, уже процентов на 60 готовый, Виген смиксовал «Зов предков» Левона Шанта с жизнью создателя «Книги скорбных песнопений». Он предложил мне продюсерство и роль, причем не Нарекаци, а просто Монаха. А Нарекаци — есть идея, чтобы его сыграл Паргев Србазан, он прочитал сценарий и окрылился…
Вот мы говорим о поисках темы… Сегодня такой фильм — об истинной вере, как мне кажется, может оказаться очень нужным.