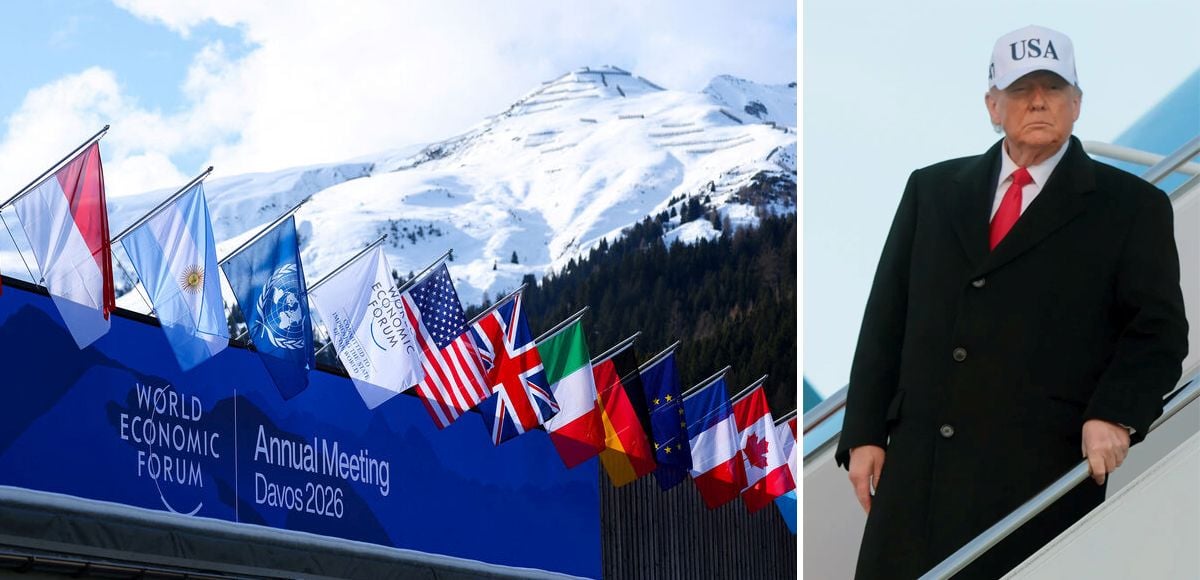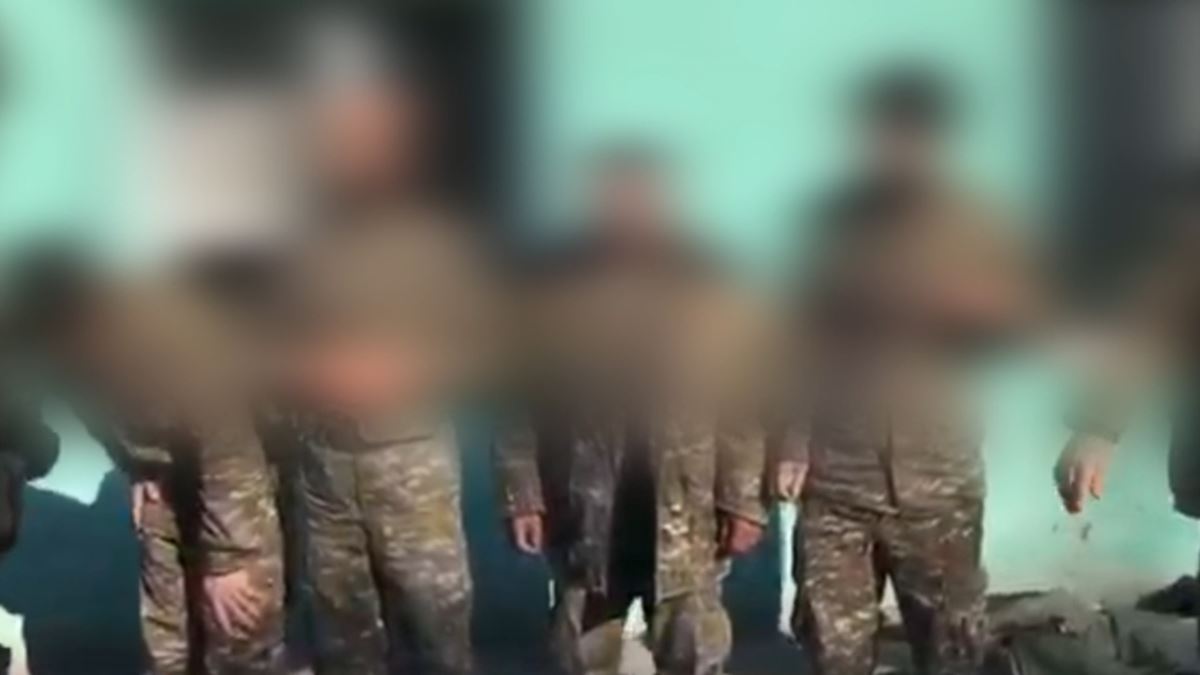Воздействие, которое оказала Великая французская буржуазная революция на ход мировой истории, общепризнано. При представлении этого вопроса чаще говорится о гражданских правах, об идеях свободы, братства и равенства, о масонском следе в революциях, но почти никогда о стартовавшем тогда же процессе нациообразования. В том или ином своем толковании именно этот процесс привел к великим «национальным экспериментам», в том числе повлиял на логику моделирования «советской общности». Ведь теория наций русских марксистов писалась с учетом всех предшествующих разработок. Какими же были эти разработки?
Одной из главных постановок нового времени и стал незамысловатый на первый взгляд вопрос: а что такое нация? Является ли нация очередной ступенью эволюционного развития той или иной этнокультурной общности или это нечто принципиально новое и революционное? Какие именно компоненты слагают нацию?
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ОТВЕТА НА ВОПРОС «ЧТО ЕСТЬ НАЦИЯ» НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. К моменту Французской революции язык уже давно перестал быть универсальным дифференцирующим национальным признаком: один и тот же английский, испанский, немецкий, арабский, сербский… использовался разными нациями. Швейцарская нация, наоборот, пользовалась сразу четырьмя языками, но при этом оставалась единым образованием. Религия также не являлась универсальным дифференциалом: одна и та же нация могла состоять из католиков и протестантов, из суннитов и шиитов, из христиан и мусульман…
Более того, в числе самоопределившихся к тому времени национальных обществ были и расово неоднородные. В частности, латиноамериканские нации состояли из белых, креолов, мулатов, метисов, индейцев-америндов, но вместе с тем говорили на испанском. Становление американской нации в свою очередь усугубило известные противоречия.
Впервые понятие «нация» в его политическом значении появилось в ходе Великой французской революции, когда возникла необходимость сформировать новую общность взамен подданства французской короны. Естественно, не обошлось без серьезнейших противоречий. Так, Учредительное собрание, упразднившее цехи и регламенты, лишило мастеров монополии, вызвав негодование последних. Свобода хлебной торговли спровоцировала недовольство уже низших классов, причем как в городе, так и на селе, поскольку многие крестьяне не собирали достаточно зерна (его даже не хватало для собственного пропитания). Враждебно была воспринята в деревне и свобода обработки земли, утверждавшая буржуазную концепцию собственности в противовес ее общинным формам; казалось, приходил конец традиционным общинным правам, обеспечивавшим средства существования беднейшего крестьянства. Народные массы были «исключены из нации» цензовой организацией политической жизни. Цветные вообще не были «допущены в нацию» – и не только рабы (освобождение которых считалось ущемлением права колониальной собственности), но и обретшие свободу чернокожие и мулаты.
С другой стороны, антимонархическое движение действительно выступало как национальное, чему способствовали попытки соседних иностранных держав путем военной интервенции восстановить старый монархический порядок. Иными словами, классовая борьба перерастала в национально-освободительную, а национально-освободительная велась исключительно революционерами и поддерживающими их силами – «представителями французской нации».
«ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!» – ЭТИ СЛОВА ПОДНИМАЛИ ЛЮДЕЙ НА БОРЬБУ и предопределяли неизбежность формирования даже не столько новых институтов власти, сколько совершенно новых понятий – «Национальное собрание», «Национальная гвардия»… Понятия «революционер», «патриот» и «представитель нации» были тогда идентичны. Именно на ночных улицах революционного Парижа и родился известный пароль: «Ты из нации?»
С первых же дней понятие «нация» заключало в себе и великий эмоциональный смысл. Вспомним знаменитый клич командующего мозельской армией, будущего почетного маршала Франции Франсуа-Кристофа Келлермана, приостановивший продвижение прусской армии Карла Вильгельма Фердинанда к Парижу. 20 сентября 1792 г. в сражении при Вальми французские ряды рассыпались под вражеской канонадой, когда Келлерман, выйдя вперед с поднятой саблей, бросил клич ошеломленным армиям: «Да здравствует нация!» Под непрекращающимся огнем прусских войск, считавшихся тогда лучшими в Европе, не дрогнул ни один солдат Французской революции. Кстати, сцена поразила самого Гете: позже на памятнике героям Вальми были начертаны его слова: «Отныне и от сего места начинается новая эра мировой истории».
Тем не менее Великая революция разделила общество на «своих и чужих», на «представителей нации» и на «врагов нации». В декабре 1792 г. Робеспьер призвал Конвент объявить свергнутого монарха Людовика XVI не просто преступником, а именно «врагом французской нации». Тогда же в кварталах Парижа был рожден лозунг «кто не с нацией, тот против нации» (предтеча главного лозунга большевистской бескомпромиссности — «кто не с нами, тот против нас»). Отсюда, собственно, и террор.
Пассивные граждане постепенно лишались декларированного права голоса и вскоре просто были исключены из Национальной гвардии. Политические права уже распределялись в зависимости от богатства; многие активные граждане – мелкая буржуазия и люди свободных профессий – отстранялись от избирательных функций имущественным цензом, необходимым, чтобы быть избранным: помимо прочего они должны были обладать и земельной собственностью. Извилистыми путями шло формирование буржуазной нации.
ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ НЮАНС: ПОНЯТИЕ «НАЦИЯ» В ТОТ ПЕРИОД ВОВСЕ не обязательно характеризовалось этническим содержанием. В большей степени «представителей одной нации» связывали единые интересы, цели и задачи, общая готовность к их отстаиванию.
На примере немецкого населения Эльзаса и Лотарингии тенденцию эту теоретически развил Фридрих Энгельс: «Но вот разразилась Французская революция. То, что Эльзас и Лотарингия не смели и надеяться получить от Германии, было им подарено Францией <…> Нигде во Франции народ не присоединился к революции с большим энтузиазмом, чем в провинциях с германоязычным населением. Когда же Германская империя объявила войну революции, когда обнаружилось, что немцы не только продолжают покорно влачить собственные цепи, но и дают еще себя использовать для того, чтобы снова навязать французам старое рабство, а эльзасским крестьянам – только что прогнанных господ феодалов, тогда было покончено с принадлежностью эльзасцев и лотарингцев к немецкой нации <…> тогда они научились ненавидеть и презирать немцев, тогда в Страсбурге была сочинена, положена на музыку и впервые пропета эльзасцами «Марсельеза», и тогда немецкие французы, невзирая на язык и прошлое, на полях сотен сражений в борьбе за революцию слились в единый народ с исконными французами».
В КОТЛЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ И ВАРИЛАСЬ ПЕРСПЕКТИВА «интернационализации наций» – тенденция, приглянувшаяся позже марксистам. В контекст идеи «интернационализации наций» и вписывается марксистский лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
«Нация порабощенных» и «нация угнетателей» – примерно так представлялось главное противоречие времени, и именно в этой классовой борьбе, с точки зрения марксистов, протекал процесс образования наций. И народы, в силу тех или иных обстоятельств не вовлеченные в революционную борьбу, не воспринимались творцами нового учения в качестве «наций настоящих». Более того, они осуждались в самых крайних, иногда – откровенно издевательских формах. Известно достаточно язвительное обращение Фридриха Энгельса к отдельным славянским народам, не участвовавшим в европейских революциях сороковых годов.
Так, через год после выхода в свет «Манифеста Коммунистической партии» Энгельс ответил на брошюру Михаила Бакунина — идеолога панславизма: «Бакунин – наш друг, однако это не помешает нам подвергнуть критике его брошюру <…> Как хорошо было бы, если бы хорваты, пандуры и казаки представляли авангард европейской демократии, если бы посол Сибирской республики вручал в Париже свои верительные грамоты! Поистине положение немцев и мадьяр было бы весьма приятным, если бы австрийским славянам помогли добиться своих так называемых прав! Между Силезией и Австрией вклинилось бы независимое богемско-моравское государство; Австрия и Штирия были бы отрезаны «южнославянской республикой» от своего естественного выхода к Адриатическому и Средиземному морям; восточная часть Германии была бы искромсана, как обглоданный крысами хлеб! И все это в благодарность за то, что немцы дали себе труд цивилизовать упрямых чехов и словенцев, ввести у них торговлю и промышленность, более или менее сносное земледелие и культуру!»
Расистские нотки, явно проглядывающиеся в высказываниях Энгельса, следует воспринимать на фоне революционной бескомпромиссности, известной со времен Великой французской революции («кто не с нами, тот против нас»). Автор осуждает славянские народы за пассивность почти по тому же принципу, по которому в свое время пассивные французы лишались избирательных прав и изгонялись из «нации».
Не скрывал своих взглядов и Карл Маркс. В сентябре 1863 г. он сообщил Энгельсу о своем новом знакомом: «Мое самое интересное знакомство здесь с полковником Лапинским. Без сомнения, он умнейший из всех поляков, встреченных мной, и кроме того – человек действия. Национальная борьба его не интересует, он знает только расовую борьбу. Он равно ненавидит всех азиатов, к которым причисляет русских, турок, греков, армян и т.д.»
НЕ МЕНЕЕ ОХОТНО ТВОРЕЦ НОВОГО УЧЕНИЯ ЦИТИРОВАЛ ЭНГЕЛЬСУ, а также немецкому социал-демократу Людвигу Кугельману выдержки из расистской книги Пьера Тремо «Происхождение и изменение человека и других существ». В одном из писем он отмечал: «В приложении к истории и политике Тремо намного важнее и плодотворнее Дарвина. На некоторые вопросы, вроде национальности и т.д., только у него можно найти природное основание, он подтверждает версию о геологическом различии между Россией и западными славянами. Посмотрите на усилия царей сделать из московитов поляков <…> Настоящая граница между славянской и литовской расами, с одной стороны, и московитами с другой, идет по геологической линии, которая лежит к северу от бассейнов Немана и Днепра» .
С учетом всего вышесказанного и необходимо рассматривать последующие большевистские принципы решения национального вопроса в отдельно взятом государстве. В их числе – понятие «советский народ». Иными словами, даже самые несуразные на первый взгляд словосочетания нельзя рассматривать в узком русле, тем более нельзя их персонифицировать и толковать на фоне убогости, например, русских марксистов. Все подобные разработки прорастали в уже подготовленной для такого роста теоретической почве и едва ли были случайными.
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ОТВЕТА НА ВОПРОС «ЧТО ЕСТЬ НАЦИЯ» НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. К моменту Французской революции язык уже давно перестал быть универсальным дифференцирующим национальным признаком: один и тот же английский, испанский, немецкий, арабский, сербский… использовался разными нациями. Швейцарская нация, наоборот, пользовалась сразу четырьмя языками, но при этом оставалась единым образованием. Религия также не являлась универсальным дифференциалом: одна и та же нация могла состоять из католиков и протестантов, из суннитов и шиитов, из христиан и мусульман…
Более того, в числе самоопределившихся к тому времени национальных обществ были и расово неоднородные. В частности, латиноамериканские нации состояли из белых, креолов, мулатов, метисов, индейцев-америндов, но вместе с тем говорили на испанском. Становление американской нации в свою очередь усугубило известные противоречия.
Впервые понятие «нация» в его политическом значении появилось в ходе Великой французской революции, когда возникла необходимость сформировать новую общность взамен подданства французской короны. Естественно, не обошлось без серьезнейших противоречий. Так, Учредительное собрание, упразднившее цехи и регламенты, лишило мастеров монополии, вызвав негодование последних. Свобода хлебной торговли спровоцировала недовольство уже низших классов, причем как в городе, так и на селе, поскольку многие крестьяне не собирали достаточно зерна (его даже не хватало для собственного пропитания). Враждебно была воспринята в деревне и свобода обработки земли, утверждавшая буржуазную концепцию собственности в противовес ее общинным формам; казалось, приходил конец традиционным общинным правам, обеспечивавшим средства существования беднейшего крестьянства. Народные массы были «исключены из нации» цензовой организацией политической жизни. Цветные вообще не были «допущены в нацию» – и не только рабы (освобождение которых считалось ущемлением права колониальной собственности), но и обретшие свободу чернокожие и мулаты.
С другой стороны, антимонархическое движение действительно выступало как национальное, чему способствовали попытки соседних иностранных держав путем военной интервенции восстановить старый монархический порядок. Иными словами, классовая борьба перерастала в национально-освободительную, а национально-освободительная велась исключительно революционерами и поддерживающими их силами – «представителями французской нации».
«ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!» – ЭТИ СЛОВА ПОДНИМАЛИ ЛЮДЕЙ НА БОРЬБУ и предопределяли неизбежность формирования даже не столько новых институтов власти, сколько совершенно новых понятий – «Национальное собрание», «Национальная гвардия»… Понятия «революционер», «патриот» и «представитель нации» были тогда идентичны. Именно на ночных улицах революционного Парижа и родился известный пароль: «Ты из нации?»
С первых же дней понятие «нация» заключало в себе и великий эмоциональный смысл. Вспомним знаменитый клич командующего мозельской армией, будущего почетного маршала Франции Франсуа-Кристофа Келлермана, приостановивший продвижение прусской армии Карла Вильгельма Фердинанда к Парижу. 20 сентября 1792 г. в сражении при Вальми французские ряды рассыпались под вражеской канонадой, когда Келлерман, выйдя вперед с поднятой саблей, бросил клич ошеломленным армиям: «Да здравствует нация!» Под непрекращающимся огнем прусских войск, считавшихся тогда лучшими в Европе, не дрогнул ни один солдат Французской революции. Кстати, сцена поразила самого Гете: позже на памятнике героям Вальми были начертаны его слова: «Отныне и от сего места начинается новая эра мировой истории».
Тем не менее Великая революция разделила общество на «своих и чужих», на «представителей нации» и на «врагов нации». В декабре 1792 г. Робеспьер призвал Конвент объявить свергнутого монарха Людовика XVI не просто преступником, а именно «врагом французской нации». Тогда же в кварталах Парижа был рожден лозунг «кто не с нацией, тот против нации» (предтеча главного лозунга большевистской бескомпромиссности — «кто не с нами, тот против нас»). Отсюда, собственно, и террор.
Пассивные граждане постепенно лишались декларированного права голоса и вскоре просто были исключены из Национальной гвардии. Политические права уже распределялись в зависимости от богатства; многие активные граждане – мелкая буржуазия и люди свободных профессий – отстранялись от избирательных функций имущественным цензом, необходимым, чтобы быть избранным: помимо прочего они должны были обладать и земельной собственностью. Извилистыми путями шло формирование буржуазной нации.
ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ НЮАНС: ПОНЯТИЕ «НАЦИЯ» В ТОТ ПЕРИОД ВОВСЕ не обязательно характеризовалось этническим содержанием. В большей степени «представителей одной нации» связывали единые интересы, цели и задачи, общая готовность к их отстаиванию.
На примере немецкого населения Эльзаса и Лотарингии тенденцию эту теоретически развил Фридрих Энгельс: «Но вот разразилась Французская революция. То, что Эльзас и Лотарингия не смели и надеяться получить от Германии, было им подарено Францией <…> Нигде во Франции народ не присоединился к революции с большим энтузиазмом, чем в провинциях с германоязычным населением. Когда же Германская империя объявила войну революции, когда обнаружилось, что немцы не только продолжают покорно влачить собственные цепи, но и дают еще себя использовать для того, чтобы снова навязать французам старое рабство, а эльзасским крестьянам – только что прогнанных господ феодалов, тогда было покончено с принадлежностью эльзасцев и лотарингцев к немецкой нации <…> тогда они научились ненавидеть и презирать немцев, тогда в Страсбурге была сочинена, положена на музыку и впервые пропета эльзасцами «Марсельеза», и тогда немецкие французы, невзирая на язык и прошлое, на полях сотен сражений в борьбе за революцию слились в единый народ с исконными французами».
В КОТЛЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ И ВАРИЛАСЬ ПЕРСПЕКТИВА «интернационализации наций» – тенденция, приглянувшаяся позже марксистам. В контекст идеи «интернационализации наций» и вписывается марксистский лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
«Нация порабощенных» и «нация угнетателей» – примерно так представлялось главное противоречие времени, и именно в этой классовой борьбе, с точки зрения марксистов, протекал процесс образования наций. И народы, в силу тех или иных обстоятельств не вовлеченные в революционную борьбу, не воспринимались творцами нового учения в качестве «наций настоящих». Более того, они осуждались в самых крайних, иногда – откровенно издевательских формах. Известно достаточно язвительное обращение Фридриха Энгельса к отдельным славянским народам, не участвовавшим в европейских революциях сороковых годов.
Так, через год после выхода в свет «Манифеста Коммунистической партии» Энгельс ответил на брошюру Михаила Бакунина — идеолога панславизма: «Бакунин – наш друг, однако это не помешает нам подвергнуть критике его брошюру <…> Как хорошо было бы, если бы хорваты, пандуры и казаки представляли авангард европейской демократии, если бы посол Сибирской республики вручал в Париже свои верительные грамоты! Поистине положение немцев и мадьяр было бы весьма приятным, если бы австрийским славянам помогли добиться своих так называемых прав! Между Силезией и Австрией вклинилось бы независимое богемско-моравское государство; Австрия и Штирия были бы отрезаны «южнославянской республикой» от своего естественного выхода к Адриатическому и Средиземному морям; восточная часть Германии была бы искромсана, как обглоданный крысами хлеб! И все это в благодарность за то, что немцы дали себе труд цивилизовать упрямых чехов и словенцев, ввести у них торговлю и промышленность, более или менее сносное земледелие и культуру!»
Расистские нотки, явно проглядывающиеся в высказываниях Энгельса, следует воспринимать на фоне революционной бескомпромиссности, известной со времен Великой французской революции («кто не с нами, тот против нас»). Автор осуждает славянские народы за пассивность почти по тому же принципу, по которому в свое время пассивные французы лишались избирательных прав и изгонялись из «нации».
Не скрывал своих взглядов и Карл Маркс. В сентябре 1863 г. он сообщил Энгельсу о своем новом знакомом: «Мое самое интересное знакомство здесь с полковником Лапинским. Без сомнения, он умнейший из всех поляков, встреченных мной, и кроме того – человек действия. Национальная борьба его не интересует, он знает только расовую борьбу. Он равно ненавидит всех азиатов, к которым причисляет русских, турок, греков, армян и т.д.»
НЕ МЕНЕЕ ОХОТНО ТВОРЕЦ НОВОГО УЧЕНИЯ ЦИТИРОВАЛ ЭНГЕЛЬСУ, а также немецкому социал-демократу Людвигу Кугельману выдержки из расистской книги Пьера Тремо «Происхождение и изменение человека и других существ». В одном из писем он отмечал: «В приложении к истории и политике Тремо намного важнее и плодотворнее Дарвина. На некоторые вопросы, вроде национальности и т.д., только у него можно найти природное основание, он подтверждает версию о геологическом различии между Россией и западными славянами. Посмотрите на усилия царей сделать из московитов поляков <…> Настоящая граница между славянской и литовской расами, с одной стороны, и московитами с другой, идет по геологической линии, которая лежит к северу от бассейнов Немана и Днепра» .
С учетом всего вышесказанного и необходимо рассматривать последующие большевистские принципы решения национального вопроса в отдельно взятом государстве. В их числе – понятие «советский народ». Иными словами, даже самые несуразные на первый взгляд словосочетания нельзя рассматривать в узком русле, тем более нельзя их персонифицировать и толковать на фоне убогости, например, русских марксистов. Все подобные разработки прорастали в уже подготовленной для такого роста теоретической почве и едва ли были случайными.