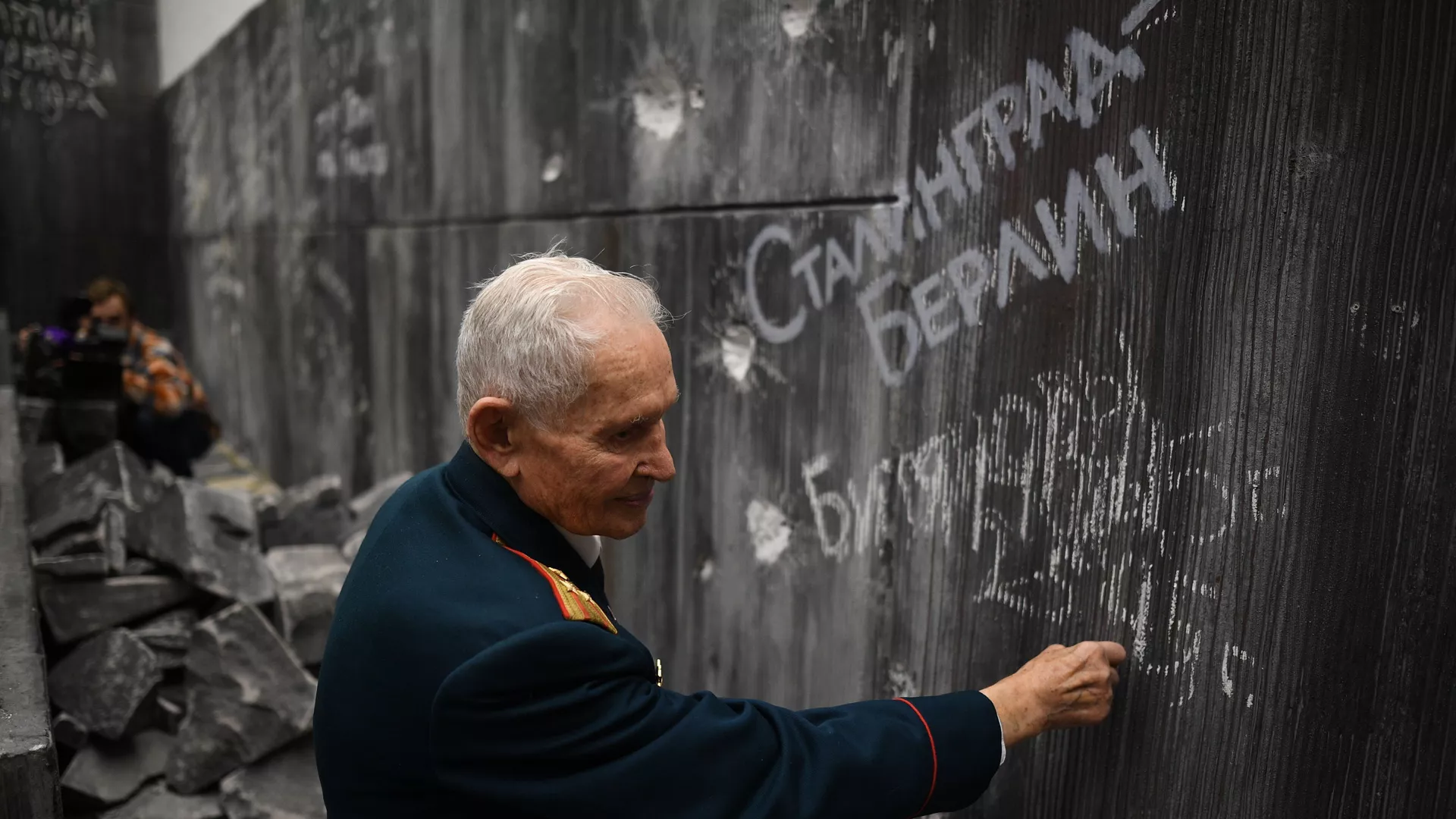В мае в Москве состоится презентация первых двух томов научно-исследовательского проекта нашего российского соотечественника Ашота ХАЧАТУРЯНЦА «История Армении», призванного через всесторонний анализ всей хроники национальной жизни и выявленных в ней закономерностей обозначить — с учетом актуальных политических и технологических тенденций — сценарии среднесрочных и отчасти долгосрочных армянских перспектив.
ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА — «АРМЯНСКОЕ НАГОРЬЕ» И «СРЕДА ОБИТАНИЯ» — создают цельное представление об Армянском нагорье, именно как о физико-географической площадке поэтапного становления армянской этнокультурной, этноязыковой и этнополитической идентичности. Роскошные издания содержат обильную эксклюзивную информацию, включая сотни снимков, таблиц, карт и приложений. Тем не менее это не альбомы-каталоги, тривиально иллюстрирующие завораживающие панорамы. Это скрупулезное научное исследование, вскрывающее историко-культурологическую ценность фактора природного разнообразия Армянского нагорья, и рассматривающее весь комплекс его рельефных, климатических, водных, зональных и флористико-фаунистических особенностей в русле строгих требований и запросов исторической науки.
Автором книг и руководителем экспедиционных работ является Арис КАЗИНЯН — дипломированный специалист в сфере палеогеографии, исторической географии, древней истории и топонимии, профессионально занимающийся вопросами культурного освоения Армянского нагорья и других регионов древней ойкумены. В разные годы он работал также на Ближнем Востоке, на Кавказе, на Балканах, в Северной Африке, в Центральной Азии. Долгие годы Арис являлся также политическим обозревателем «ГА». Сегодня Арис Казинян отвечает на вопросы «ГА».
«ГА» — Первые два тома проекта «История Армении» рассказывают о географическом расположении Армянского нагорья. В связи с этим вспоминается довольно цитируемая оценка Винстона Черчилля: «Вековые несчастья армянской нации объяснялись главным образом физическими особенностями ее родины. На высоком Армянском плато, простирающемся через центр Малоазиатского полуострова, расположены горные хребты в восточном и западном направлениях. Долины между хребтами с незапамятных времен были дорогами для всех завоевателей, двигавшихся на западе из Малой Азии, а на востоке — из Персии и Центральной Азии. В древности по этим путям шли мидяне, персы и римляне, а в первые столетия христианской эры — персидские Сасаниды и императоры Восточной Римской империи. В Средние века по ним следовали орды монголов, сельджукских и османских турок, завоевывавшие, делившие, уступавшие и снова завоевывавшие те малодоступные области, в которых несчастный народ вел неустанную борьбу за жизнь и независимость». Насколько такой комментарий географии Армении вписывается в русло повествований первых двух томов?
— Конкретно к первым двум томам подобные наблюдения имеют косвенное отношение. Черчилль пишет все-таки об историко-географическом и геополитическом расположении Армении, тогда как предметом исследования первых двух томов нашего проекта являются физико-географические особенности Армянского нагорья и вопросы его культурного освоения в доисторическую (дописьменную) эпоху. Но именно там — на водоразделе постепенной трансформации изначально сугубо физико-географической страны (Армянское нагорье) в сугубо историко-географическую страну Армения — и надлежит искать ключ к пониманию многих современных сюжетов.
В первых двух томах проекта рассказывается о закономерностях культурного освоения страны два миллиона, один миллион, пятьсот тысяч, сто тысяч, десять тысяч, шесть тысяч лет назад. Рассказывается также о предпосылках, предопределивших в своей совокупности неизбежность сакрализации местности в идеологических и мистико-религиозных представлениях месопотамских обществ в канун исторической эпохи. Все это производится с учетом пестрой палитры взаимодополняемых аргументаций и в непосредственной увязке с чрезвычайно высокой плотностью на единице площади полярно далеких высотных, рельефных, климатических, водных, флористико-фаунистических и зональных особенностей Армянского нагорья.
В общей сложности нами преодолено порядка сорока тысяч километров, заключающих в себе всю зональную палитру Армянского нагорья — от субтропических и пустынно-полупустынных ландшафтов в низинах до горной тундры и нивальных голец. На современном этапе политической истории эта площадь распределяется в государственных рубежах семи субъектов ООН, включая крайние северные участки Сирийской Арабской Республики и Республики Ирак, занимающие не более 1% от общей площади нагорья. Но именно в этих краях и располагается географический стык Армении и Месопотамии — ключевой коридор древнейших миграций и интенсивного товарообмена в эпоху Неолита и Медного века. Не работать в таких местах нельзя по определению.
Об особенностях же конкретно геополитического расположения страны, упомянутых Черчиллем в монографии «Всемирный кризис», будет подробно рассказано уже в следующих томах — в строгом хронологическом порядке.
— Но если перепрыгнуть через эпохи, насколько обоснованно его наблюдение?
— Именно как наблюдение оно верно, но как вывод — ущербно.
Если рассуждать о перекрестном расположении Армении, то тут никаких возражений быть, конечно, не может. Но это всего лишь историческая данность. Так уж повелось и тому есть вполне научные объяснения, что феномен сохранности древних этносов в Передней Азии и феномен сохранности этносов в любом другом регионе мира — феномены принципиально разные. Передняя Азия — ловушка народов и пожиратель будущности. Этакий Минотавр, проглатывающий в своем лабиринте целые цивилизации. Единственное место на Земле, где с момента ее сотворения перспектива исчезновения — в порядке вещей, неисчезновение — фантастика. С допотопных времен сия дыра проглатывала косяками не только миллионы людей, но и многочисленные языки, религии, царства — так волна разинутой китовой пасти разом вдувает в себя мириады планктона. Вот и вся история региона. Передняя Азия — Бермудский треугольник истории.
Вопрос в другом: насколько целесообразно подменять полноценный вывод прописными истинами, наподобие очевидного факта сложного расположения Армении? Важнее все-таки вскрыть причины синевы неба и белизны снега, а не провозглашать трюизм («синее небо», «белый снег», «зеленая травка») в качестве вывода.
«Вековые несчастья армян» — если следовать формулировке Черчилля — объяснялись главным образом не перекрестным расположением страны, а неистребимым стремлением армян не покидать свой мир. Вот в чем фокус! В конце концов Ассирия располагалась ровно на тех же перекрестках. Но единожды утратив свою государственность в конце VII в. до н. э. творцы этой великой и могущественной цивилизации уже не смогли — в течение последующих двадцати семи веков — восстановить свое царство или даже некое его подобие хотя бы на малой площади исторической родины. Утеряв сколь-нибудь внятные и последовательные политические амбиции, ассирийцы отгородились также от «вековых несчастий». По крайней мере в том прочтении этого словосочетания, которое подразумевалось Черчиллем.
Геополитическое расположение — повод, способность не уставать — причина. Образно говоря, выдающиеся научные открытия — едва ли результат падения яблока или удачного сновидения. Для подобных озарений все-таки недостаточно одних яблонь и спален. Необходимо быть еще Ньютоном и Менделеевым.
— Словом, причина «вековых несчастий армян» не в факте перекрестного расположения страны, а в желании не умирать и не покидать свой мир?
— Разумеется! Именно в историко-культурологических измерениях Черчилль, конечно, ошибался. Будь армяне чуть меньшими жизнелюбцами, то потонули бы вместе с финикиянами в пучине морской или превратились бы с вавилонянами в пыль времен, чем «отгородили» себя от всех последующих напастей и катастроф, сгинув раньше «вековых несчастий». Кто сегодня рассуждает о резне финикиян и геноциде вавилонян?
В силу исторических обстоятельств армянский этнос неоднократно лишался государственности, однако — и в этом суть! — никогда не терял желания и изобретательности каждый раз восстанавливать свою государственность. Причем независимость в Передней Азии реставрировал один и тот же автохтон, не утративший идентичность. Ибо, если к примеру в X в. категория «римлянин» обозначала уже жителя города Рим, но никак не древних римлян, а в XVI в. понятие «персидский шах» обозначало тюркского правителя Персии, а не арийского шаха, то содержание «армянина» и в X в., и в XVI в. обозначало ровно то, что оно обозначало и в V в. до н. э., и в V в. н. э.
— В чем секрет армянского иммунитета?
— Скорее всего в национальном характере. По крайней мере комплексный и междисциплинарный учет всех факторов и обстоятельств, включая совокупность весьма веских контраргументов и прочих встречных доводов, а также анализ исторических судеб уцелевших и исчезнувших обществ, равно как и исследование причин сохранности одних и угасания других — иными словами, сумма всех «за» и «против» — указывает прежде всего на национальный характер. При его иной природе все остальные позитивные (содействующие) факторы потеряли бы в цене и попросту девальвировались.
К примеру, если бы парфянская или римская идентичности выявили бы способность противостоять вызовам III-V вв. — то есть не только не исчезать после утраты трона, сохранив при этом идентичность, но и восстанавливать государственность, — то тогда можно было рассуждать о степени жизнестойкого их национального характера. Но этого не произошло. Как и большинство древних обществ, они «ушли» вместе с троном.
Вопрос надлежит всесторонне исследовать. Кроме сугубо научно-культурологической ценности он приобрел и крайнюю злободневность: сегодня налицо все признаки отхода критической численности этноса от трех базовых векторов национального характера. Тот же приход к власти откровенно ренегатских сил в 2018 г. — это не метеорит из Космоса, а выношенный несуразными развитиями тридцатилетней независимости вполне логический и вполне завершенный продукт. Само обстоятельство несуразности развитий — это прежде всего следствие отсутствия понимания армянским общественно-политическим истеблишментом жизненной необходимости моделирования новой — после развала СССР — армянской политической идентичности («нации независимости»), исключительной важности сочленения воплощаемых государственных программ развития с базовыми векторами национального характера и — наконец — осмысления той миссии, которую армянское наследие XX в. объективно возложило в этом процессе на Нагорный Карабах. В том прикладное значение истории. Но даже базовые векторы национального характера — а именно ключевые объяснения причин сохранности армян и армянских мотиваций — не были систематизированы и официально приняты в годы независимости. В своих исследованиях наш проект выходит на эти векторы и доказательно предлагает их грядущим поколениям.
Добросовестный культурологический анализ ритмов армянской истории свидетельствует о том, что на отрезке крайних двадцати семи столетий было не менее пяти отдельных этапов, когда цельная нация — вследствие леденяще-редкой синхронизации во времени и в пространстве внешних и внутренних потрясений — развинчивалась и расклеивалась до уровня занемогшего народонаселения, готового либо к ассимиляции, либо к безвозвратной утрате всяких политических мотиваций. В частности, с VII-VI вв. до н. э. по Первую Мировую войну такими этапами бифуркаций выступают: а) VII-VI вв. до н. э. б) начало I-II вв.; в) VI-VII в. г) XI-XII вв. д) XVII-XVIII в. На любой из этих исторических развилок армяне могли ассимилироваться (наподобие парфян) или утерять политические амбиции (наподобие ассирийцев). Однако каждый раз созидательный вектор армянского национального характера в сочетании с суверенным вектором, поддерживаемым военно-политической и творческой верхушкой, обнаруживал силы и желание перестроиться под принципиально новые реалии и воссоздать из народных недр свежую (омоложенную) и мотивированную политическую модификацию. Таков резюмированный взгляд с высот пройденных тысячелетий.
Но для неуязвимых и математически доказательных выводов необходимо первоначально всесторонне исследовать среду становления национального характера, тем более что явные признаки его наличия вполне зримо фиксируются как раз к закату доисторической эпохи. Когда в пределах крайне контрастного в природно-климатическом отношении региона уже стартовал процесс складывания — из множества родственных и неродственных фракций — одного цельного тождества, которое задолго до нашей эры будет позиционировать себя нерасторжимым единством, осваивая — именно с осознанием своего доминирующего положения в стране — все участки исторически сложившейся среды обитания с чрезвычайно высокой плотностью на единице площади полярно разных зон — от субтропического до холодного и от низинного до высокогорного. Второго полноценного прецедента летописи народов — древнейших, древних, средневековых — не знают. Без учета этой стартовой площадки наблюдений за культурологическими процессами напрасны все усилия выйти на ключевой фактор национального характера, именно как на абсолютно вещественный источниковедческий материал, вскрывающий в числе прочего причины сохранности армянского политического дыхания в самом беззастенчивом регионе угасания народов и цивилизаций, каковым на протяжении шести тысячелетий является Передняя Азия. Именно эта среда обитания и восстановлена — всесторонне исследована и представлена — в первых двух томах проекта Ашота Хачатурянца «История Армении».