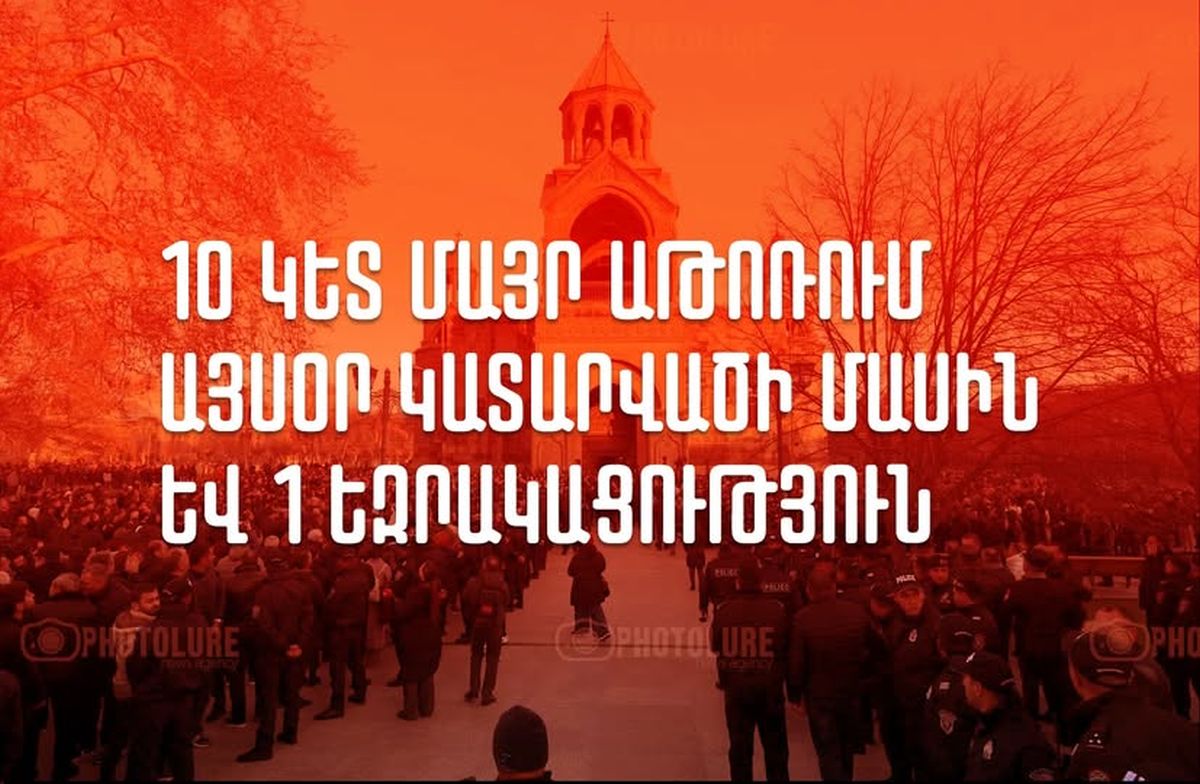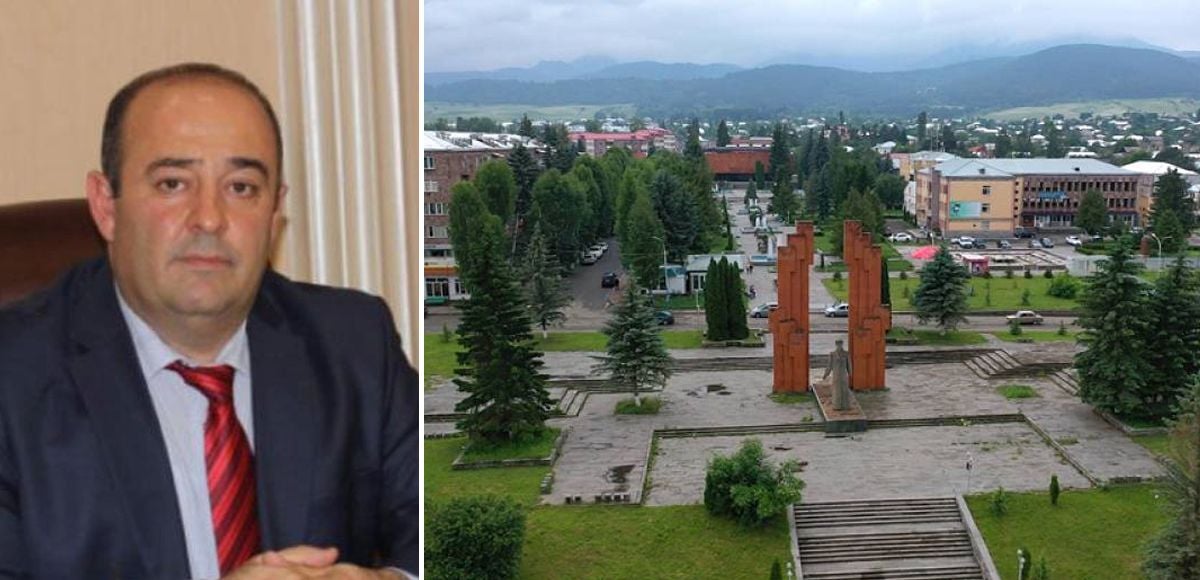65-летие режиссера, творческого руководителя Государственного театра музыкальной комедии им. А. Пароняна, председателя Союза театральных деятелей Армении, заслуженного деятеля искусств РА Акоба КАЗАНЧЯНА прошло без особой помпы — показ нового спектакля юбиляра и прекрасный многолюдный вечер.
Круглая дата и стала поводом к серьезному разговору с деятелем армянского театра, сделавшему для него так много, что и не перечислишь.
— Для деятеля театра 65 — это много или мало?
— Достаточно, но я об этом не думаю. Слава Богу, пока есть люди, которые хотят работать со мной и с которыми хочу работать я… Конечно, 65 — уже не очень оптимистическая дата, но жизнь есть жизнь.
— Ты — свидетель театральных времен, которые принято считать золотыми, и бурных многообразных преобразований последних лет. Когда интереснее?
— Я остаюсь апологетом театра 70-ых-80-ых годов прошлого века — того театра, на основе которого мы учились. Уже многие годы мы наблюдаем, как все больше уничтожается психологический театр, в фокусе внимания режиссуры оказывается не актер, а новейшая техника, проектор, виар, снег с дождем и прочее. У меня все время ощущение, что этой техникой прикрываются, а главная составляющая профессии, ее духовная составляющая — работа с актером — уходит куда-то и даже не на второй план. Для меня навсегда остается эталоном Петр Фоменко, режиссер, в центре эстетики которого лежали работа с актерами и забота о современной трактовке. Он ставил русскую классику в классических костюмах и декорациях, но представить что-то более актуальное, более современных героев было просто невозможно! Возникало ощущение, что это люди, которые поднялись на сцену прямо из зала. К сожалению, этот театр, настоящий театр, театр о Человеке, от человека к человеку, исчезает.
В этом году я был председателем комиссии на выпускных экзаменах в ГИТиК-е. Очевидно, что и у молодежи эта тенденция сильно проявляется — к сожалению. Они думают о каких то формах, часто надуманных, а актер в итоге оказывается не в главной роли. Это порой эффектно, ярко, может даже шокировать, но через пять минут об этом забываешь, и уже скучно смотреть, потому что нет сути и смыслов. Сделавшие революцию в театральной эстетике режиссеры 70-ых-80-ых годов — Любимов, Эфрос, Стуруа — совершенно изменили язык театра, но все равно не отказались от основы — театра психологического. Я до сих пор помню любимый спектакль моего учителя Андрея Гончарова «А зори здесь тихие» в театре на Таганке — гениальная условность, совмещенная с абсолютным психологизмом! Театр формы, театр-шоу сегодня душит суть.
— Многие считают, что суть театра душит и полуреформа, предполагающая диктат директора и отрицающая институт художественного руководителя…
— Это глупость, это идиотизм! Это навязывание каких-то очень конкретных моделей европейского театра, которые и на Западе отнюдь не единственные. Прикрываясь «продвинутостью», эта тенденция направлена на уничтожение нашего театра и его традиции.
Я вообще не понимаю, что им сделали худруки! Если уж на то пошло, уберите их из всех творческих коллективов — из симфонических оркестров, ансамблей танцев и прочее, везде назначьте директоров и пускай они разбираются! Почему только с театрами идет эта война? Статус худрука прописан только в уставах театров, который вторичен по отношению к Закону о ГНКО, в котором такой категории вообще не существует. Посмотрите на соседнюю Грузию, что, грузинский театр хуже армянского? Но там худрук — главный человек. И его должен назначать министр. Если он плох, меняйте! Но не надо вечно ставить в пример неудачных творческих руководителей и таким образом настаивать на их ненужности. Я вообще удивляюсь: Министерство часто и по разным поводам собирает директоров, в том числе и частных театров (а это, как правило актеры, собравшие свои компании), и совещаются, совещаются… Почему никто не хочет узнать, что думают о реформе Армен Хандикян, Армен Элбакян, Ара Ернджакян, Нарине Малян, ваш покорный слуга? Ни разу нас не собрали и не выслушали! Я отлично знаю, откуда, из какого печально знаменитого офиса растут эти уши и родился этот вектор. Но я давно живу и таких реформаторов насмотрелся — они должны помнить, что ничто не вечно.
— Ты начинал в Капане и по сей день постоянно озабочен судьбой региональных театров. Почему, несмотря на многие усилия и государственные программы, реализуемые до последних шести лет, ситуация по большому счету не выправляется?
— Вот я на днях был на премьере в Капане, причем время спектакля совпало с футбольным матчем, и тем не менее, был полный зал. В театр ходят, и есть спектакли, на которые не найти билета, — очень отрадно было это слышать. Я многократно говорил и повторю — у нас сегодня такая ситуация, что наличие качественного театра зависит исключительно от воли городской или региональной администрации, а если им плевать, никто ничего поделать не может. У самих этих театров не хватает ресурса, нужна поддержка из Еревана. Когда в советское время я работал в Капане, у театра было 7 служебных квартир, и можно было спокойно приглашать маститых актеров и режиссеров. Повторю — семь! А сегодня, допустим, пригласили — театр должен за свой счет оплачивать их пребывание, что практически нереально. Хотя вот Артур Карапетян и Сатик Ахназарян играли с труппами Гориса и Капана, звезды «Амазгаин» работают в Гюмри… Позитивные тенденции есть. Но власти на местах должны задуматься прежде всего о своих жителях, которые тоже имеют право на полноценную жизнь, и создавать нормальные условия для культурного обмена и развития.
— А как насчет фестивалей? Они ведь очень стимулируют процесс.
— Фестиваль приводит в сознание само понятие театра. В регионе, где он проходит, зритель потом долгое время ходит в театр, а значит, это не должно быть делом разовым. Но у меня такое ощущение, что они стали проводиться не просто без учета какой-то культурной политики, а из совсем других интересов. СТД много лет проводил Шекспировский фестиваль, и в итоге армянские театры выезжали с большими спектаклями в очень театральные страны. Сейчас ничего серьезного не происходит. Вот в одном из регионов громко объявляют — «Международный театральный фестиваль»! Но если при огромном бюджете в программе один-два зарубежных спектакля, и то сомнительных, «Международный фестиваль» — это смешно! Те, кто это финансирует, в основном министерство, они не видят, что это просто республиканский фестиваль международным прикинулся?
— Ты основал в Армении два серьезных международных фестиваля, которые существуют по сей день, но потом «отошел от дел». Почему?
— Просто устал. Шекспировский фестиваль очень технично убрали из минкультовского бюджета. Конечно, можно было найти спонсоров, но… А сегодня мы видим пару фестивалей с огромными бюджетами, а также их содержание и результат. Потому что никому не интересно, кто может и умеет организовать фестиваль, а кто нет. Вот у нас есть ХФ — авторитетный, утвердившийся. Если министерство реально хочет активировать театральную жизнь в каком-то регионе, так пусть дадут финансирование Артуру Гукасяну и скажут — делай дополнительную программу для такого-то города! У него для этого есть все возможности — понимание концепции, опыт, международные связи…
К сожалению, всегда играет роль «свои-чужие». Настоящего широкого мышления с пониманием задач культуры у нас, как мне кажется, уже никогда не будет — мы не того замеса. Где-то что-то покритиковал — и все: ты становишься «несвоим», а умения и профессионализм никого не интересуют.
— В нашем социуме надлом и апатия. О чем и как с ним должен говорить театр?
— Вчера, сегодня, завтра — хороший театр должен говорить о проблемах, которые волнуют зрителя. Он не может давать ответы, но он должен ставить вопросы — хорошо бы, чтобы публика после спектакля над чем-то задумалась. Но с каждым годом процент тех, кто в театре хочет только расслабиться и развлечься, только растет. Упаси Боже, я вовсе не говорю, что такой театр не имеет право на существование. Проблема в другом — наиглавнейшим такой театр считают те, кто определяет политику культуры. Если «Продано!», значит прекрасно, и это единственный критерий. Так повелось — на фильмы Тарковского и Феллини шли в один сеанс и на них сидело ползала, а индийское кино набирало по десять полных залов в день. И что? Мы жалуемся на вкус зрителя, но те, кто отвечает за культурную политику, обязаны что-то предпринимать, чтобы на этот вкус влиять. Вот я только что выпустил комедию «Мою жену зовут Морис», и уже понятно, что она будет хорошо продаваться. Но поверь, это не спектакль моей мечты. Мне бы хотелось, чтобы высокие продажи были у «Короля на площади» или «Театра времен Нерона и Сенеки».
— Теперь вопрос к председателю СТД. Как долго еще будут раскачивать эту лодку и пытаться уничтожить союзы всеми допустимыми и недопустимыми способами?
— Союзы показали и продолжают показывать свою состоятельность. Вот наш Союз уже шесть лет не получает от государства ни копейки. Но мы работаем, проводим «Артавазд» и по нескольку фестивалей в год, реализуем с Московской Конфедерацией театральных союзов многочисленные молодежные программы. Наш зал стал базой для Степанакертского театра, плюс, мы бесплатно предоставляем его для репетиций и показов спектаклей, в основном, опять же молодежи…
Честно говоря, мне уже надоели эти разговоры — в них лучше не вникать и делать свое дело. Никто ведь меня не приглашает и не говорит — знаешь, Союз не нужен! Эта тенденция, как сейчас модно говорить, «витает в воздухе». И в этом черном деле ставки делаются на людей, которые, к сожалению, есть в наших рядах и которых, к счастью, очень мало. Они с таким энтузиазмом льют воду на мельницу желаний власти! Просто восхищаюсь — как им удается так плавно мимикрировать, прямо, по закону физики — «материя не исчезает, а переходит, согласно принципу обратимости, из одного вида в другой». А если что-то во власти изменится, эти люди плавно и органично примут «иной вид» и снова оседлают волну, и их опять примут, и примут в первую очередь. Я так жить не умею, в 65 лет уже трудно меняться.
А чтобы не заканчивать на грустной волне… При всех проблемах армянского театра у нас сформировалось даже не молодое, а уже среднее поколение блестящих режиссеров. 3-4 имени — это уже отличный результат, а мы, по счастью, можем назвать гораздо больше. И я очень надеюсь, даже уверен, что за ними идут люди, не менее яркие и преданные делу театра.