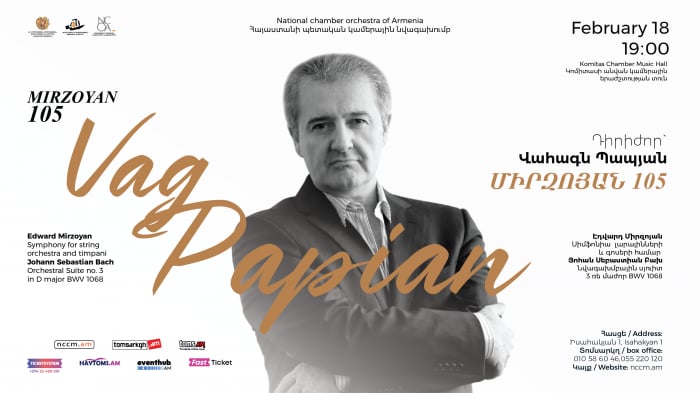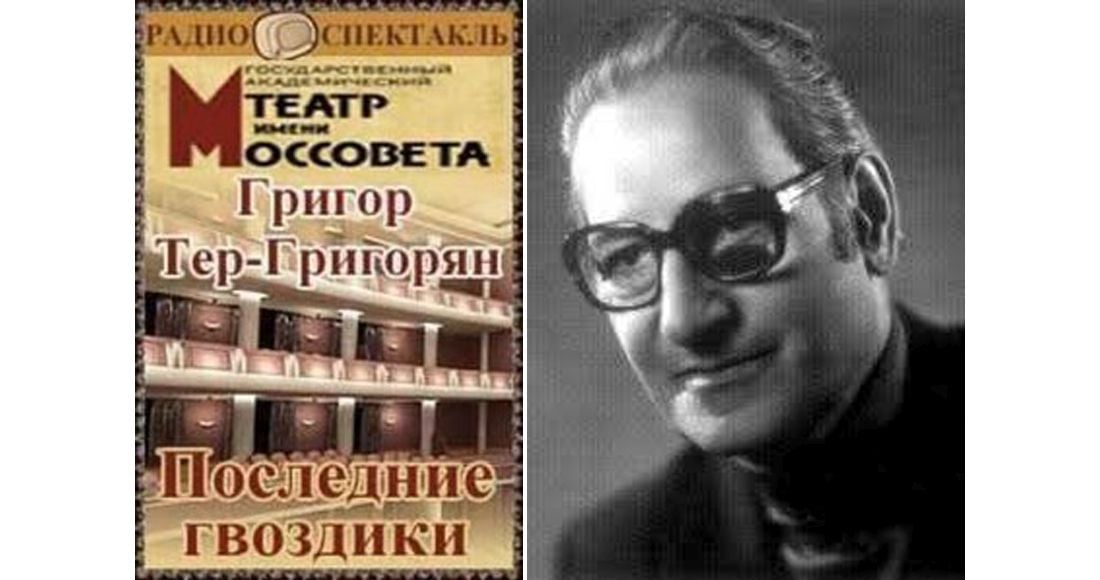Эта статья о замечательном скульпторе Ара ШИРАЗЕ, ушедшем недавно из жизни, написана в середине 70-х годов известным российским искусствоведом Александром КАМЕНСКИМ, автором множества серьезных исследований об армянских художниках, начиная от патриарха армянской живописи М.Сарьяна, маэстро Кочара, Минаса Аветисяна до современных авторов. Статья Каменского, чьи обзоры в течение многих лет украшали и полосы нашей газеты, актуальна и сегодня, поскольку именно она наиболее тонко и глубоко отражает творчество тогда еще молодого скульптора.
Ара Шираз начинал свою самостоятельную работу с прямого и сугубо конкретного обращения к старинным образцам. В 1966 году Шираз исполнил весьма необычную по своей идее серию «голов». Он использовал для этой цели древние армянские сосуды из меди — чайники, кувшины и т.д. Обрабатывая и изменяя первоначальные формы, Шираз превращал каждый из этих сосудов в портретное или символическое изображение.
КОНЕЧНО, КОМПОЗИЦИИ ТАКОГО ЦИКЛА ИМЕЮТ ВЕСЬМА ПРИЧУДЛИВЫЙ ХАРАКТЕР — они выглядят гротескно, кажутся осколками какого-то маскарада. Но главное здесь в ином: молодой мастер в самом буквальном смысле слова руками изучал традиционные формы, законы построения их объемов, их пропорций, особенности их соотношения с пространством. Само собой, что этот эксперимент был лишь частью острозаинтересованного внимания художника к национальной пластической традиции, которую он стремился осмыслить в контексте духовной жизни наших дней и как бы переложить на новый, современный язык скульптуры.
А.Шираз предлагает очень своеобразные решения этой сложнейшей проблемы. Поверхностная стилизация ему чужда, его поиски идут непроторенным, неочевидным путем.
Так, созданные Ширазом в 1969 году горельефы для гостиницы «Ани» воссоздают сюжеты древних легенд и сказаний. Зритель прежде всего ощущает огромную пластическую энергию скульптур. Ритм в горельефах медлителен, между отдельными «фразами» композиции, ее деталями, изгибами выдержаны основательные паузы. Это придает скульптурному повествованию монументальную выразительность. Некоторая доля умышленной архаичности запечатленных тут обликов не кажется нарочитой и надуманной. В том-то и состоит особая тонкость образного строя горельефов, что они воспринимаются как воспоминания и размышления современника о национальной старине, об исторических судьбах народа, о гордой силе его духа. Прошлое предстает здесь не как мертвый груз цитат и археологических реставраций. В этой временной многозначности, в перекличке эпох — особая оригинальность скульптур Шираза, тематически посвященных древней Армении. Они остроактуальны, они говорят о том, как прошлое народа оживает в настоящем, составляя корневую основу современного национального бытия.
СХОДНЫЕ ОБРАЗНЫЕ ПРИЕМЫ, ЖИВАЯ ДИНАМИКА ВРЕМЕН ВСТРЕЧАЮТСЯ и в некоторых портретах мастера, которые сочетают индивидуальную характерность с широтой обобщений. Ведущая тема скульптуры «Рабочий» (1971) — торжество целеустремленной воли. Оно ощутимо и в уверенном жесте рук, и в крепкой мускулатуре лица, и во всей энергичной пластике скульптуры с ее резко очерченными контурами. Но образ сложно развернут во времени. Взгляд Рабочего устремлен в пространство и не пересекается со зрительским взором. В полуфигуре героя при всех ее современных чертах есть некая древневосточная застылость, иератичность. Эти приемы дают композиции, так сказать, двустороннюю временную перспективу. Ведь тут нет ощущений непосредственной встречи с изображенным человеком: он и рядом с нами, и на огромной дистанции, он соприкасается с чем-то далеким, давно отошедшим. Так прошлое входит в наши дни. И сегодняшняя энергия армянского рабочего получает опору в вековых традициях настойчивого повседневного труда на каменистых полях Армении.
Есть несомненная внутренняя связь между скульптурой Шираза «Рабочий» и его же портретом замечательного армянского поэта Паруйра Севака (1975). Тут такое же сложное сплетение национально-традиционного и современного.
Севак писал однажды (в стихотворении «Моя анкета»):
Национальность? Армянин
Вот уже более двух тысяч лет…
Люблю я в сердце свое смотреть
Такими же пристальными глазами,
Какими смотрю я на свой стих,
Еще сырой, но написанный кровью.
Эти строки, право же, можно воспринимать как образную программу портрета, выполненного А.Ширазом. Скульптура насыщена глубоким драматизмом. Она вызывает в памяти полные муки и скорби лики персонажей барельефных изображений на стенах собора X века Ахтамар. Эпизод из тех же «двух тысяч лет»! Но древняя трагическая муза получила ныне новое звучание. Изображенный Ширазом поэт самозабвенно и с огромным духовным напряжением «смотрит в свое сердце». Композиция с ее резким наклоном влево от зрителя, а также неровная, волнистая фактурная поверхность бюста вызывают невольные ассоциации с языками колышущегося пламени. Душевное горение — вот суть, вот «музыка» этого прекрасного портрета, где страдальческий излом асимметричного, одутловатого лица запечатлел муки рождения «написанного кровью» стиха. «…И строки, полные моего страдания, пусть станут для кого-то назиданьем!» — восклицал на рубеже X-XI вв. Григор Нарекаци. Наш современник Паруйр Севак, каким его показал Ара Шираз, создает нынешний, полный страсти новых времен стихотворный парафраз одной из вечных тем армянской поэзии…
В СУЩНОСТИ ТА ЖЕ ТЕМА (КОТОРУЮ МОЖНО БЫ ВЫРАЗИТЬ И НЕДАВНЕЙ ФОРМУЛОЙ «Цель творчества — самоотдача») является поэтическим стержнем портрета еще одного прославленного литератора, который выполнил А.Шираз, — «Уильям Сароян» (1976). Только по сравнению с «Паруйром Севаком» портретная концепция решена тут более сдержанно и утонченно. Душевная открытость, исповедальность Севака, крупные, мощные мазки в лепке его характера сменились в «Сарояне» замкнутостью, приглушением лишь угадываемой душевной боли. Должно быть, встреча с родиной предков породила в сердце писателя сложные переживания: его брови сдвинуты, лоб перерезан морщинами, губы непроизвольно шевелятся. Но свои чувства писатель выражает не в яростном порыве, как Севак, а в затаенном вздохе, в минорной лирике, столь свойственной прозе Сарояна…
Александр КАМЕНСКИЙ
1977 г.