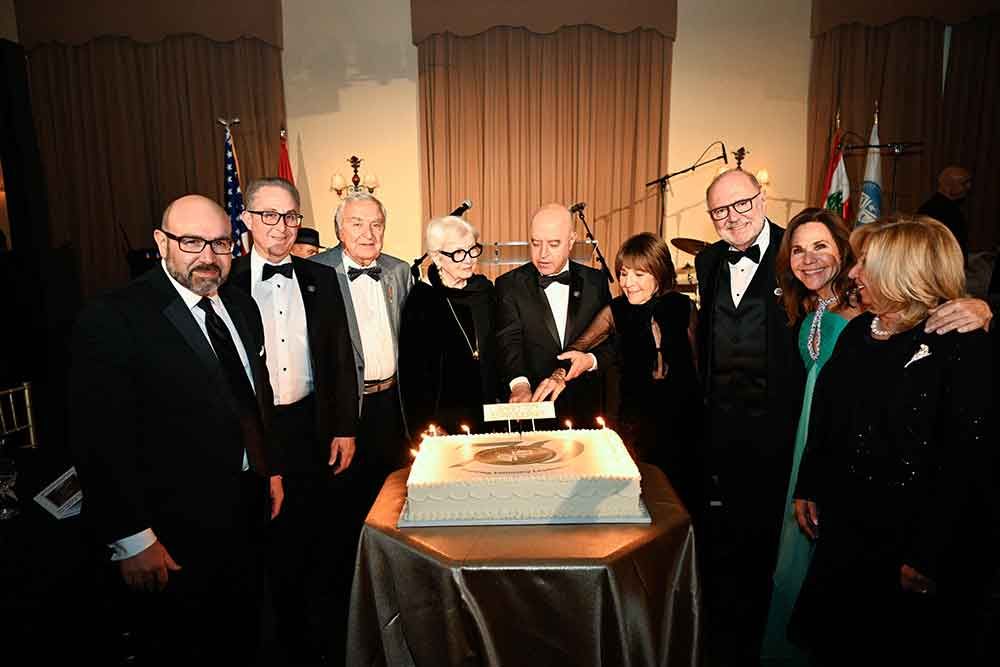Восемьдесят лет назад,
в 1935 году, на гонорары от своей первой книги, «Отважный юноша на летящей
трапеции» (1934), Уильям Сароян совершил свое первое большое путешествие по
Европе и СССР. В конце июня он находился в Ереване, а в начале июля приехал в Москву,
где познакомился с Егише Чаренцем. В своем эссе «Потери» (1954) Сароян
описал обидный, но курьезный случай, произошедший с ним в Москве из-за того,
что он «честно изложил свои впечатления о Советской России».
«ЧАРЕНЦ
РАССКАЗАЛ МНЕ, ЧТО ГОРЬКИЙ ПРИНИМАЕТ ПИСАТЕЛЕЙ ВСЕХ национальностей Советского
Союза, и мне тоже захотелось увидеться с Горьким. Я не читал всего Горького. Я
не был знатоком Горького. Вообще-то мне не особенно нравились его романы, но я
читал его короткие рассказы, «На дне» и что-то из
«Детства». Я хотел видеть Горького. Чаренц говорил, что я его увижу.
В Москве русские попросили меня написать о моих впечатлениях, что я и сделал.
Чаренц сказал, что мне отказано в посещении Горького на основании того, что я
написал. Я спорил с русскими в Москве битых два часа, но с Горьким так и не
встретился».
Машинописный текст «Впечатлений» сохранился в
архиве Стэндфордского университета (коробка N68, папка N93). И сегодня у нас есть
возможность узнать, чем же Сароян так прогневил советских «литературоведов
в штатском», что ему было запрещено даже издали взглянуть на Горького.
Справедливости ради следует отметить, что Сарояна приняли в редакции журнала
«Интернациональная литература» и два его произведения —
«Бесстрашный юнец на трапеции» и «Автобиография» были
напечатаны в NN8 и 10 за 1935 год. Правда, без курьезов не обошлось и здесь. На
фоне высокоидейных произведений Анны Зегерс, Андре Мальро, Лиона Фейхтвангера и
других, печатавшихся в журнале, «Автобиография» показалась кому-то
слишком легкомысленной, поэтому редакция на всякий случай, чтобы обезопасить
себя, сопроводила текст Сарояна следующим комментарием:
«Помещая автобиографию У.Сарояна как документ об
отношении некоторых писателей в странах капитализма к своей профессии редакция
считает необходимым отметить, что такой цинизм, какой проявляет Сароян, отнюдь
не свойствен действительно революционным писателям, которые делают все, чтобы
оружие их творчества было целеустремленным, действенным и метким, и которые в
силу этого со всей серьезностью относятся к своей работе. А за ироническими
шуточками Сарояна скрывается беспочвенность писателя, не знающего, зачем и для
каких целей он пишет».
Интересно, что бы сказали рецензенты из «Интернациональной
литературы», если бы им на глаза попались сарояновские «Впечатления о
Советской России», а может, они их читали?
ТЕКСТ
«АВТОБИОГРАФИИ» СОПРОВОЖДАЛО ФОТО, ВИДИМО, СДЕЛАННОЕ ТУТ ЖЕ, В
РЕДАКЦИИ, о
котором Сароян высказал все, что он о нем думает:
«Хотя считается, что прилагаемая фотография моя, она
скорее напоминает другого субъекта, несомненно, тяжкого преступника, молодого
человека с весьма низкими задатками». Таким образом, редакция открестилась
от сарояновского текста, а Сароян открестился от редакционного фото.
Текст злополучного сочинения о том, что Сароян думает о
Советском Союзе, отпечатан на машинке и несет следы весьма радикальной правки
рукой Сарояна. Белового варианта в нашем распоряжении нет. Во всяком случае из
текста вполне понятно, что именно раздосадовало пристрастных московских
цензоров, принявших непоколебимое решение не пускать Сарояна к Горькому.
Остается много вопросов, например, о чем говорили два часа Сароян и его
оппоненты и присутствовал ли при этом Чаренц. Во всяком случае Чаренц не
оставил никаких свидетельств о знакомстве с Сарояном в Москве летом 1935 года.
***
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ «ИНТУРИСТА»: «Если вы
пожелаете воспользоваться этим текстом, то прошу вас перевести его слово в
слово и вернуть мне оригинал. Ваш У. САРОЯН».
Уильям САРОЯН
Гостиница
«Новая Москва»
Москва, СССР
4 июля 1935 года
Мои впечатления о
Советской Армении и Советской России
Меня попросили
изложить свои впечатления о Советской Армении, но, прежде чем я перейду к
этому, я должен сообщить ряд фактов, касающихся меня лично, а также моих
убеждений, дабы исключить какие-либо недоразумения, чтобы я смог высказаться
непринужденно и честно как индивидуум и как гражданин мира.
Во-первых, по национальности Я армЯнин. Иными словами, Я унаследовал духовный опыт армянской семьи.
Моя привязанность к своему роду не столько надуманна, сколько непроизвольна.
Как писатель, занятый творческим трудом, я не могу пренебрежительно относиться
к своим корням, ибо без них я не смог бы вымолвить ни единого слова ни на одном
языке, не говоря уже об английском. По этой и по другим, более деликатным
причинам я глубоко озабочен судьбой армян во всем мире.
Однако среда, из которой я происхожу, американская. Я
родился в Калифорнии двадцать шесть лет назад, и всего лишь месяц, как покинул
пределы Америки.
По национальности я армянин, а по среде обитания —
американец.
Память моего народа живет в отдаленном (но неумирающем)
прошлом, где-то в Малой Азии, а мои личные воспоминания связаны с Америкой, ее
недавним прошлым.
Каждое из этих взаимоотношений вызывает у меня
переживания, но от этого оно не перестает быть подлинным. Я люблю Армению по
той же неосознанной причине, по какой цирковой тигр любит джунгли. И я люблю
Америку, потому что здесь сосредоточены все вехи моей жизни.
Но в целом я не принадлежу ни к какому народу в
отдельности, а, скорее всего, к единому народу земли, к семье живущих,
вобравшей в себя всякого живого смертного. Моя преданность своему народу, равно
как и моя преданность Америке, принципиальны. Ибо из первого я черпаю
вдохновение для своих сочинений, а второе — источник их содержания.
И эта семья живущих, к которой я причисляю себя, есть
семья, которой присущи только благороднейшие свойства человека: во-первых,
чистота, затем сила, доброта, энергия, разум и так далее.
Я глубоко верю в чистоту и силу человека, заложенные в
нем от рождения. В своих произведениях я утверждаю эту веру. Я не верю ни в то,
что жизнь должна быть яростной битвой за хлеб и кров, ни в то, что жесткость
неизбежна и уместна. Я верю в то, что в мире хватает цивилизованных людей,
способных навязать свою силу и достоинство тем, кто упорно отказывается вести
себя цивилизованно, — могущественным и алчным, и тем, кто повелевает силами,
ввергающими сонмы людей в войну.
БУДУЧИ ПИСАТЕЛЕМ,
Я НЕИЗБЕЖНО ОКАЗЫВАЮСЬ ПРОПАГАНДИСТОМ, но я должен противостоять жестокости и обману, если они
в той или иной форме присущи правительству, независимо от того, насколько
благородны или желанны его цели в теории или на практике. Я против всего
чрезмерного и порочного в капиталистическом общественном устройстве, но я в
равной степени против тех же проявлений в пролетарском строе, ибо теории меня
занимают гораздо меньше, чем люди, и если теория красива, а человек утопает в
мерзостях жизни, то на что мне такая теория!
Я с большим недоверием отношусь к сильным мира сего,
которые верховодят массами. Я всегда опасаюсь, что они забудут о своих
обязанностях. А по моему разумению, их прямая обязанность — обеспечить всех
(буквально всех) предметами первой жизненной необходимости — пропитанием и
кровом и, более того, избавить ум и душу человека от чувства незащищенности,
непостоянства и страха за свою жизнь.
Люди не способны возвыситься (кроме гениев, которые
всегда возвышенны), если такие условия не будут созданы во всем мире и на
прочной основе.
Вот почему я всегда с величайшим восхищением относился к
Карлу Марксу и живо интересовался Советским Союзом.
До недавнего времени мои финансы не позволяли мне
побывать в Европе и России. Я был писателем, но я был писателем без средств. И
вот я в Европе. Лондон, Париж и Вена утомили меня своей духовной апатией.
Россия же, напротив, привела меня в восторг, затем — в раздражение, после — в
негодование и, наконец, озадачила вопросом: а нужно ли вообще добиваться, чтобы
люди жили по-человечески?
Откровенно говоря, я разочарован.
Я прибыл в Россию, полный простодушной веры и
воодушевления, которые свойственны мне и вечно ввергают в тяжкий и прискорбный
конфуз.
Оказавшись наконец в России, я твердил себе, что увижу
страну, в которой пестуется новая и более благородная поросль человечества. В
России я найду человека, полностью очищенного от всяческой людской низости. В
России я увижу лица людей, спокойных и выдержанных, живущих богатой духовной
жизнью. В России я услышу новый смех и увижу новый, отлаженный ритм жизни.
Я говорил себе, что в России я буду чувствовать себя как
дома.
Но оказалось, что все иначе. Где-то что-то пошло не так.
Может быть, я наивен. Может, я требую невозможного, но я так не считаю! Я не
считаю, что на земле невозможно прокормить и приютить всех, кто на ней живет. Я
не считаю невозможным для власть имущих обеспечить социальное равновесие,
которое положит начало достойной жизни для всех людей.
Я НЕ РАЗБИРАЮСЬ В
ИСТОРИИ, ПОЛИТИКЕ ИЛИ ЭКОНОМИКЕ, И ВСЕ ВЫСКАЗАННОЕ МНОЮ может быть мгновенно
опровергнуто простой констатацией этого обстоятельства. Пусть так. Я наделен
всего лишь писательским даром — отчетливо видеть и передавать увиденное
средствами языка. Мне этого достаточно. Я присматривался, выискивал самое
лучшее. Человеческая порода в России не есть новый род человеческий, а все тот
же самый, известный мне по Америке.
Я возвращаюсь в Америку, унося с собой одно-единственное
и весьма печальное наблюдение: повсюду,
в любой стране, совершенно не важно, с какой формой правления, земля богата
жизнью и благами, но нигде я не нашел ландшафта, который отличался бы от прежде
встреченного, и нигде род людской не отличался благородством и добротой.
Перевел с
английского Арам ОГАНЯН