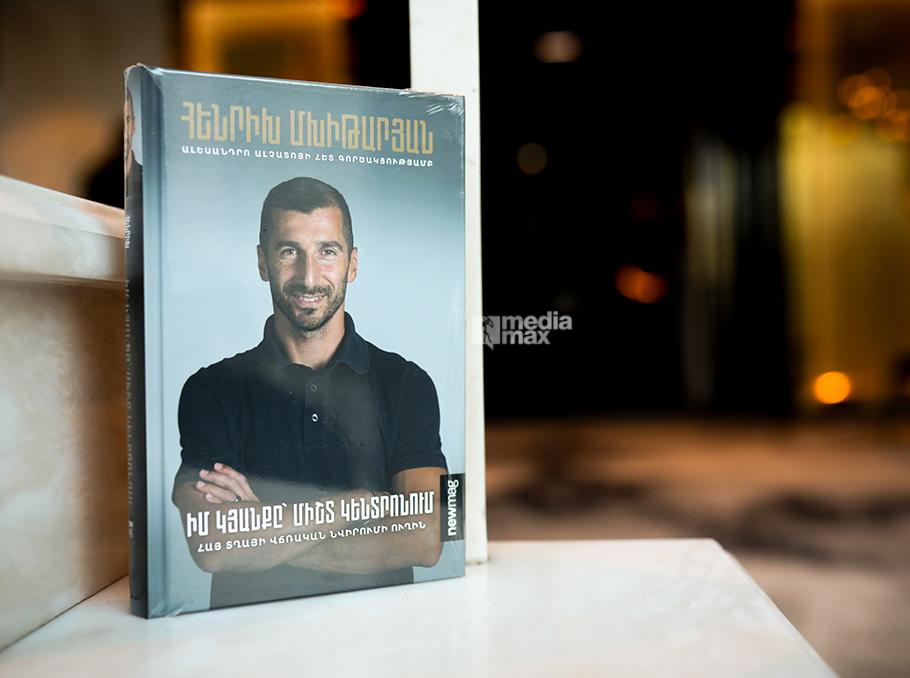Более двухсот лет назад английский критик и поэт Самуэль Джонсон произнес фразу, которая вскоре "обрела крылья" и в качестве афоризма была использована многими позднейшими моралистами. Известное ныне изречение "Патриотизм — последнее прибежище негодяя" вылетело из уст Джонсона 7 апреля 1775 года на заседании Лондонского литературного клуба.
КОНТЕКСТ ОЗВУЧИВАНИЯ ПОЭТОМ ЭТОГО ВЫРАЖЕНИЯ представил годами позже Джеймс Босуэлл в своем жизнеописании Джонсона: "Патриотизм стал одним из общих мест в наших разговорах, и Джонсон неожиданно произнес сильным и решительным тоном афоризм, на который многие накинутся: "Патриотизм — последнее прибежище негодяя". Но следует полагать, что он не подразумевал реальной и щедрой любви к нашей стране, но имел в виду тот патриотизм, который так многие во все времена и во всех странах делали прикрытием личных интересов".
В последующие десятилетия афоризм этот использовался чаще всего вне контекста (да и кому только он не приписывался — вплоть до Льва Толстого). В XIX веке понятие "патриотизм" вписалось уже в принципиально новый контекст, и теперь под ним подразумевалась также способность представителей той или иной нации к выявлению внутренних общественно-политических и социальных рецидивов. Николай Добролюбов писал в этой связи: "В недавнее время патриотизм состоял в восхвалении всего хорошего, что есть в Отечестве; ныне уже этого недостаточно, чтобы быть патриотом. Ныне к восхвалению всего хорошего прибавилось неумолимое порицание и преследование всего дурного, что есть у нас".
Несколько раньше Добролюбова этот подход отстаивал в русском обществе Петр Чаадаев: "Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее и даже унижать, но только не обманывать". Словоупотребление "но только не обманывать" постепенно становилось основополагающей характеристикой патриота.
Если исходить из подобного понимания природы вещей, то можно допустить мысль о том, что армянский патриотизм в определенной степени стал предвосхищением теоретической мысли Нового времени. Еще за четырнадцать столетий до Чаадаева отец армянской истории Мовсес Хоренаци писал: "Изложу я эту историю общедоступным языком, чтобы люди брались за чтение истории нашего Отечества, привлеченные не красноречием наших слов, а правдивостью нашего повествования". В далеком V веке Хоренаци обличал своих соотечественников совсем на манер позднейших европейских моралистов:
"НАСТАВНИКИ — БЕЗГРАМОТНЫЕ И САМОДОВОЛЬНЫЕ, ПРИСВОИВШИЕ СВОЙ САН, а не призванные Богом, избранные при помощи серебра, но не Духом, стяжатели, завистники, утерявшие кротость, в коей обитает Бог, и обратившиеся в волков, терзающих свое стадо. Монахи — лицемерные, чванливые, тщеславные, предпочитающие почести Богу. Епископы — горделивые, сутяги, суесловные, ленивые, ненавистники наук и назиданий, любители торжищ и скоморошества. Ученики — нерадивые в учении и скорые на поучения.
Простолюдины — дерзкие, непокорные, бражники, вредоносные, бегущие от наследственного надела. Воины — робкие, хвастливые, ненавидящие брань, бездельники, сластолюбивые, нестойкие, грабители, пьяницы, похитители, собратья разбойников. Начальники — мятежные, приспешники воров, скаредные, рвачи, скупые, алчные, расхитители, разорители, сквернолюбцы, сообщники слуг. Судьи — бесчеловечные, лживые, обманщики, взяточники, не чтущие закона, изменчивые, придирчивые. И полная утрата всеми любви и стыда".
Можно привести немало указаний на то, что еще с периода раннего средневековья в армянском сознании понятие "любовь к Отечеству" не локализовалось узкими рамками пустословий, а как раз напротив: многочисленные примеры восхваления Родины обрамлялись, как правило, столь же многочисленными примерами порицания. Это именно тот расклад, который в эпоху европейского Просвещения и стал называться "патриотизмом". Где сегодня этот пласт, где сегодня раннесредневековый армянский патриотизм?
Гарегин Нжде писал: "Репортеров у нас много, даже в избытке; сегодня нужна обновляющая публицистика. Журналистика, которая на протяжении десятилетий, после тысяч и тысяч жертв не смогла указать на истинные причины бедствий народа… такая журналистика нам не нужна. <…> Нам нужна журналистика, которая безошибочно определит все беды нашего племени, предложит радикальные методы, которая подвергнет переоценке наше прошлое и найдет новые истины, которая высветит трудности нашего народа и выявит его скрытые добродетели, которая увидит опасность, подстерегающую народ".
КВАСНОЙ ПАТРИОТИЗМ, ЗАВОЕВАВШИЙ С НЕКОТОРЫХ ПОР ТРИБУНУ И РУПОР, не только отвергает обоснованность всяких попыток указания на истинные причины бедствия народа (очевидно, что это не столько Азербайджан с Турцией, сколько наша собственная система правления), но и на фоне неразрешенности карабахской проблемы квалифицирует их едва ли не в качестве предательства национальных интересов. В той же "системе координат" воспринимается и дозволенная рамками внутриполитической игры свобода оппозиции осуждать власти. Это именно тот случай, когда "шатер патриотизма" собирает под своим брезентовым сводом негодяев из двух лагерей и становится их последним прибежищем. А журналистика потакает этому процессу мнимого оздоровления.
В декабре 1921 года Ованес Туманян писал находящемуся в эмиграции Аветику Исаакяну: "Хоть ты и спрашиваешь, но я не хочу и не буду подробно писать о нашей стране. Скажу коротко: мы разрушили ее как изнутри, так и извне. Часть – плуты и негодяи, часть – воры и разбойники, часть – бездарные горемыки, и нет массы, хотя бы группы, которая обнаружила в себе дух и нравственные возможности возрождающегося государства".
Для незаинтересованного и непредвзятого контингента злободневность этих строк, конечно же, неоспорима. Их актуальность не столько даже в отражении указанных социальных групп и характеристик в зеркале нынешней общественно-политической жизни Армении. В большей степени актуальность трагического письма вскрывается на фоне острейшего дефицита современных рассуждений на эту тему.
Армянская общественно-политическая мысль заблокирована сегодня в ничуть не меньшей степени, чем армянские железнодорожные коммуникации. И если дорожная блокада поддерживается соседними государствами, то "блокада аналитическая" — следствие внутреннего расклада сил и вещей. Причем она усугубляется все новыми и новыми "вливаниями", каковым, к примеру, стал пресловутый диалог "власти — оппозиция", ввергнувший и без того хилую аналитическую мысль в состояние коллапса.
Посему вышло так, что в двадцатилетнюю годовщину восстановления независимости мало кому вообще хочется честно рассуждать на внутренние темы…