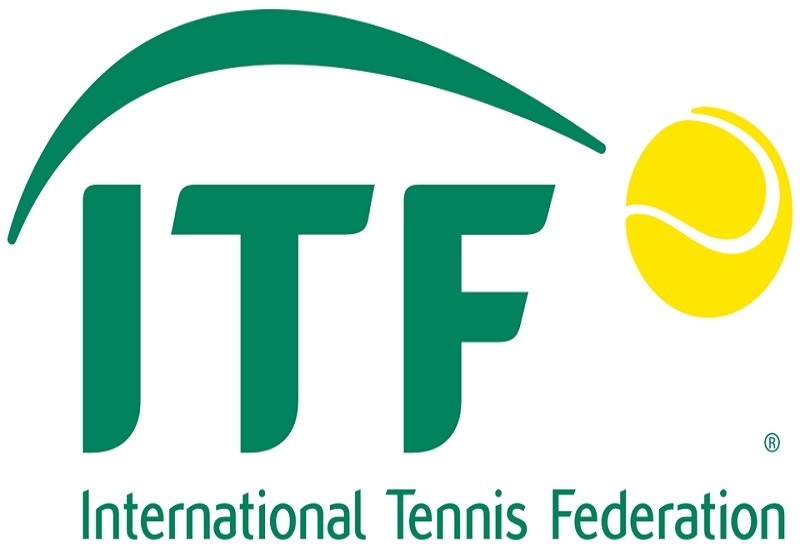Берлин тридцатых бурлил как никогда. Геральдический медведь, вышедший из своего жилища – этимология германской столицы позволяет и такое, – бродил по улицам факельного города, наступая на уши целому поколению: патриотический гимн Гайдна был адаптирован к новым реалиям и звучал не совсем правдоподобно. Перекликаясь и конкурируя с "Хорстом Весселом", он занимал площади и властвовал в сердцах бюргеров. Гимн – между прочим, "Австрийский императорский" – будет официально запрещен в 1945 году участницами антигитлеровской коалиции, однако ровно через семь лет "реабилитирован", разумеется, в несравненно более куцей форме (текст Гофмана фон Фаллерслебена порядком отредактирован) и под другим названием: "Немецкая песня". Но это будет позже, а пока…
А пока великий трагик обдумывает сценарий вечернего представления. Расположившись в кресле комфортабельного гостиничного номера, он слушает Гайдна и ощущает резонанс восторженной площади – 12 баллов по шкале Гитлера. Это похлеще самых бурных "браво" и оваций. Вот как, оказывается, умеет просыпаться берлога: ну ничего, сегодня вечером я ей окажу медвежью услугу…
Понять душевное состояние великого Ваграма Папазяна было несложно: в 1895 году он восьмилетним мальчиком стал очевидцем чудовищных по своей жестокости армянских погромов в родном Константинополе, чем и (отвлечемся!) объясняется, по всей видимости, природа его удивительно пронзительного взгляда. Им он сражал многих – Сару Бернар, Элеонору Дузе, Новелу Цакони, Елену Гоголеву, Грассо и даже своего наставника Сальвини. О завораживающей силе его взгляда ходили легенды в богемной среде Милана и Венеции. Впрочем, в Венеции они плыли… Вероятно, брассом – именно в этой манере любил в свое время плавать юнга Венецианского морского училища "Марко Поло", маленький мальчик с огромными глазами. Вскоре его отчислят из училища за буйный нрав – юнга неуправляем! Ваграм Папазян никогда не умел плыть по течению…
Среди его педагогов в Венеции был аббат дон Педро, преподававший психологию и философию. Кроткий и добрый, он внешне весьма походил на Бартоло, одного из героев комедии Бомарше "Севильский цирюльник". Слушая уроки аббата, будущий покоритель мировых театральных сцен пристально следил за движением мясистого носа, отвислых губ, за мимикой лица и настолько искусно подражал ему, что вызывал гомерический хохот в классе. В один из таких сеансов мальчик так увлекся, что не заметил вошедшего в кабинет преподавателя. Внезапно смех оборвался, и воцарилось гробовое молчание. Впрочем, он отреагировал вполне добродушно: "Продолжай, бывший юнга, капитан из тебя не получится, но актер наверняка выйдет…"
Факельное шествие и громогласные рапорты под окнами комфортабельной берлинской гостиницы, помимо прочего, призваны были возродить в сознании актера интерес к датам. Его он потерял в зловещем 1915 году: уцелевший в сетях турецкой жандармерии артист утратит всякое желание копошиться в вехах собственной биографии. "Срывать листки календаря – значит считать дни своей жизни… А кому нужна эта грустная арифметика, если конечный итог неизбежен? Полагаю, что и дата моего рождения далека от истины, так как хорошо помню, что в 1910 году совет Константинопольского патриаршества внес изменения в метрические записи, дабы избавить армянских подростков от воинской обязанности. И пусть простят мне, если, рассказывая о своей беспокойной жизни, я не вспомню, например, когда и в каком возрасте умер Сальвини, сколько пьес написал Д’Аннунцио, как причесывался Оскар Уайльд и в какой день Сара Бернар начала спор с Дузе о последовательности переживаний мавра в пятом акте "Отелло". Великий актер действительно не лукавит…
Переживший 1915 год, Ваграм Папазян имел по сути один-единственный выход: стать профессиональным трагиком. Именно в качестве такового он и завоюет мировые сцены: родина Вильяма Шекспира признает в нем лучшего Гамлета и Отелло. А Елена Гоголева до конца долгой своей жизни не утратит привычки инстинктивно вздрагивать при виде самого простого платка: она чувствует клещи необузданного мавра, ярость которого заставляла капитулировать…
Однако сегодня, похоже, капитулирует сам мир. Капитулирует перед оскорбленной отношением к себе великих держав нацией, пробуждение которой проявляется в недопустимых формах. Вот как, оказывается, умеет просыпаться берлога… Впрочем, расположившийся в кресле комфортабельной берлинской гостиницы трагик думает о другом. Как сын пережившей Геноцид нации (в этом случае пафос, наверное, оправдан), он не может быть безразличен в отношении уже другого угнетаемого народа – еврейского. В свое время именно такое преступное равнодушие международного сообщества и позволило "молодым туркам" из салоникских денме уничтожить полтора миллиона армян.
Вечером Ваграм Папазян намерен отомстить за всех. Под гимн Гайдна он обдумывает сценарий исторического представления. Это, разумеется, будет Шекспир. Кроме него (любимого) актер играет Лермонтова, Толстого и Сарояна. Таков его, Папазяна, выбор!
Факелы пробудили актера и вернули его к современной истории. До этого календарь его жизни внешне соответствовал анонсированному содержанию броских театральных афиш. "Я всегда живу в одном времени года – день спектакля для меня весенний день, даже если на дворе стоят январские морозы. Я играю на сцене, как в воскресный день, даже если это Страстная пятница, не важно. А как может быть иначе, если в пасмурные дни Мурманска я переживаю удушливый зной берегов Нила, в мерзлых степях Сибири вижу розы Шираза… когда того требует автор". Впрочем, два раза в своей жизни он поступит иначе…
Второй раз – это блокадный Ленинград: актер переселится в Советский Союз в 1922 году и, кстати, не сыграет ни в одной советской пьесе. Это тоже его, Папазяна, выбор! Равно как и решение остаться в блокадном городе с тем, чтобы… однажды его спросили: "Что вы играли тогда в Ленинграде? Гамлета?" — "Гамлета? – удивился актер. – Я паясничал, обезьянничал, изображал клоуна, чтобы на лицах солдат появилась улыбка". Впрочем, и это будет позже, а пока…
А пока великий трагик обдумывает сценарий вечернего представления. Расположившись в кресле комфортабельного гостиничного номера, он слушает Гайдна и ощущает резонанс восторженной площади – 12 баллов по шкале Гитлера: это действительно похлеще самых бурных "браво" и оваций. Актер перелистывает в памяти календарь своей жизни и едва не останавливает выбор на комическом: а может, смешно намекнуть им на "вождя", как когда-то на добродушного аббата дона Педро? Впрочем, не совсем тонко. Вопроса "быть или не быть?" сегодня уже не существует. Разумеется, быть! Но быть кому – Гамлету, Отелло?..
Прояснение наступит минутами позже – Мастер загримируется под мавра. Вечером он выйдет на сцену и бросит в переполненный зал не платок, но перчатку. Он обратится к нацистской публике. "Смотрите на меня, я черный!"