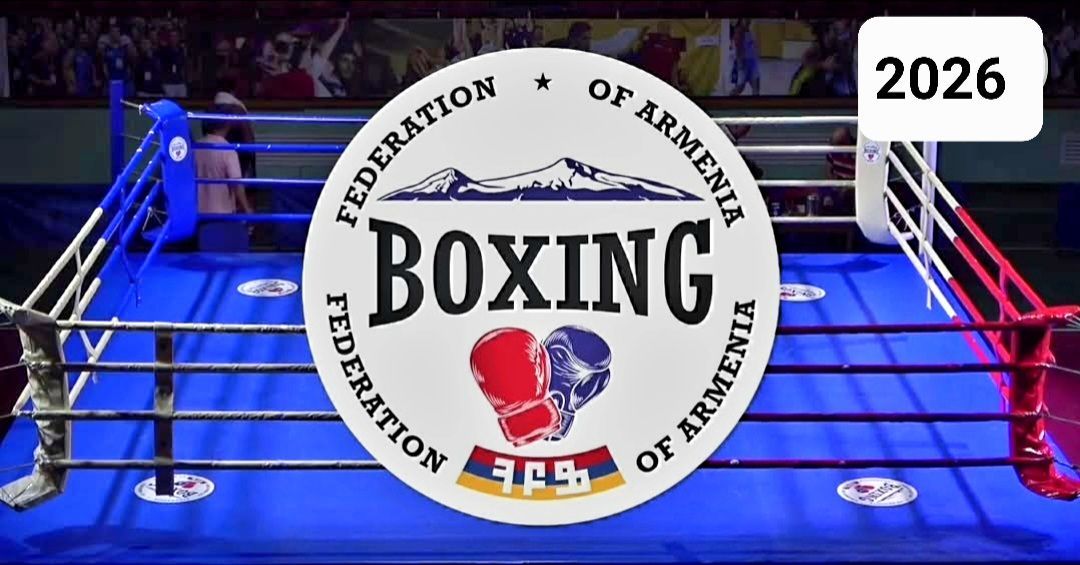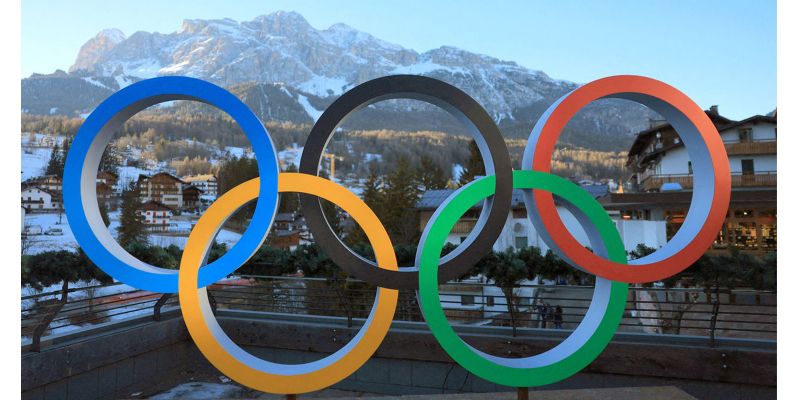От наноэлектроники все-равно никуда не деться — даже индифферентному к инновационным технологиям и обделенному не только профессиональным, но и человеческим интересом к науке и экономике корпусу чиновников Министерства экономики РА во главе с министром Нерсесом ЕРИЦЯНОМ
О нанотехнологиях сегодня не рассуждает разве что очень ленивый. Но при этом мало кто представляет во всей полноте, с чем мы имеем дело. Сразу укажем на главное обстоятельство и причину, по которой весь мир (по крайней мере его разумная часть) на этой теме «сошел с ума». Дело в том, что все наноразмерные материалы несут в себе энергосодержание нового типа, то есть бум вокруг наноматериалов в первую очередь связан с таящейся в них огромной дополнительной энергией. А в получаемых в ЗАО «Наноаморф технология» наноаморфных (некристаллических) металлах энергонасыщенность еще на порядок выше…
ЧУДО-МЕТАЛЛЫ
В отличие от своих кристаллических наноаналогов, открытые армянскими учеными наноаморфные материалы таят в себе огромную дополнительную энергию в силу элементарных законов физики, согласно которым любые аморфные тела стремятся к кристаллизации, и, соответственно, в момент их перехода в кристаллическое состояние происходит выделение гигантской энергии.
В указанном институте еще в 1995 году имели смелость поставить на баланс свою интеллектуальную собственность (технология и патент), которую сами же осторожно оценили в 40 млн драмов. А когда одна английская фирма много позже провела оценку разработки, выйдя на стоимость в… $58 млн, ученые разве что не ахнули, с трудом свыкаясь с объективной оценкой своего труда.
Видя все эти годы полное безразличие (а то и похуже: прямое желание «вставлять палки в колеса») отечественных властей, работающих не покладая рук в направлении формирования в стране инновационной экономики… без инноваций, в институте не отчаивались. Как нам рассказал директор ЗАО «Наноаморф технология», д-р физ.-мат. наук, член Инженерной академии РА Размик МАЛХАСЯН, на международные гранты им удалось сперва перейти от получаемых миллиграммов наноаморфных металлов к десяткам граммов в год, а сегодня возможно получение 15-30 граммов… в день, причем с перспективой расширения производства в десятки раз — до 100-200 кг ежегодно. Заметим, что 1 грамм указанного материала стоит на мировом рынке порядка $300. То есть пройден огромный путь от собственно идеи до организации промышленного производства наноаморфных металлов 99-й чистоты и их производных соединений. Попутно повышались узнаваемость института и его разработки в мире.
А после того как было налажено производство, в институте принялись изучать возможные области применения перспективного материала. Этих областей формально три — и все они являются производными одного и того же обстоятельства. В частности, на основе наноаморфных металлов возможно создание новых нанокомпозитов. Так, ученые из американского университета в штате Айова добавили в и без того известный своей прочностью полимер 7% указанного материала — и прочность полученного композита в 12 раз (! — А.А.) превысила таковую у исходного материала. При этом он легче даже алюминия. Таким образом, «на выходе» можно получать некий заменитель металла, который податлив к различной формовке и из которого, соответственно, можно делать все что хочешь.
 Поистине прорывным для Армении может оказаться применение наноаморфных металлов в нанолитографии. Зайдем, чтобы было понятно, о чем идет речь, несколько издалека. Если раньше была электроника, которая со временем трансформировалась в микроэлектронику, то сегодня завершается и ее эпоха. Микроэлектронику в силу исчерпанности ее возможностей неизбежно сменяет наноэлектроника. Иначе говоря, если первые «мергеляновские» ЭВМы «Наири» занимали пространство по всей стене, то сменившие их компьютеры умещались на небольшом столе, а с переходом от микрочипов к имеющим гораздо более высокую плотность наночипам то место, которое занимает современный компьютер, и вовсе сведется к «точке». И в этом деле Армения уже имеет неоспоримые преимущества, которые нужно только реализовать.
Поистине прорывным для Армении может оказаться применение наноаморфных металлов в нанолитографии. Зайдем, чтобы было понятно, о чем идет речь, несколько издалека. Если раньше была электроника, которая со временем трансформировалась в микроэлектронику, то сегодня завершается и ее эпоха. Микроэлектронику в силу исчерпанности ее возможностей неизбежно сменяет наноэлектроника. Иначе говоря, если первые «мергеляновские» ЭВМы «Наири» занимали пространство по всей стене, то сменившие их компьютеры умещались на небольшом столе, а с переходом от микрочипов к имеющим гораздо более высокую плотность наночипам то место, которое занимает современный компьютер, и вовсе сведется к «точке». И в этом деле Армения уже имеет неоспоримые преимущества, которые нужно только реализовать.
Речь о проекте ЗАО «Наноаморф технология», именуемом «Применение наноаморфных материалов в нанолитографии». Сегодня нанолитография основывается на кристаллах, но имеется одна серьезная проблема — их закрепление на подложке. К примеру, российская авиастроительная корпорация «Сухой» также вынуждена решать подобную задачу, как бы «механически» закрепляя необходимые наноструктуры (стелс покрытие) на поверхности крыла — при том что наноаморфные материалы при необходимости могут перевести указанное покрытие в такое же, как у крыла, кристаллическое состояние, причем, как было указано выше, с выделением энергии и как бы сваривая их на месте за счет этой энергии. Все это совершенно новые понятия, вытекающие из самой природы аморфности. То есть речь идет о создании многослойных аморфно-кристаллических гибридных систем, резко расширяющих элементную базу для создания наночипов нового поколения.
К тому же все ныне существующие полупроводниковые чипы работают в температурном режиме, не превышающем 100 градусов Цельсия, а полупроводниковые наносоединения ведут себя безукоризненно при тепловых нагрузках вплоть до 550 градусов.
И наконец, эти наноаморфные материалы сами по себе являются сверхчувствительными сенсорами-датчиками — температуры, влажности, различных газов и т.п. И это еще одна сфера применения открытого армянскими учеными наноматериала…
ЗАПЯТАЯ, ЗАПЯТАЯ… БУДЕТ ЛИ ТОЧКА?
Повторимся, разработанная армянскими учеными технология, будучи воплощена в жизнь, может резко изменить экономический облик страны, но… И тут-то кроется та самая вынесенная в заголовок «запятая», барьером ставшая на пути наноаморфных материалов.
Дело в том, что по приватизационной программе 2003 года ЗАО «НПО «Атом» (так раньше именовалось ЗАО «Наноаморф технология») перешло в частные руки в 2005 году. Здесь укажем, что в целях сохранения кадрового потенциала и собственно науки, согласно закону, научные учреждения в нашей стране приватизируются по особой концепции — в частности, такие объекты передаются самим их коллективам. (От себя заметим, что и без того работающие коллективы не только научных учреждений, как правило, имеют первоочередное право на приватизацию своего предприятия.) Однако коллектив указанного института, прямо скажем, не горел желанием лишиться статуса госучреждения, хотя понимал, что частнику будет несколько легче действовать на международном рынке. (Между прочим, многие институты из упомянутого приватизационного списка смогли избежать разгосударствления — и ничего…)
 В тот момент у ЗАО «НПО «Атом» появился возможный инвестор, из бизнес-плана которого правительство взяло его обязательства и своим постановлением записало их на институт. По поводу этих «повышенных» договорных обязательств по инвестициям и рабочим местам коллектив ЗАО долго и бесполезно судился с правительством, но безрезультатно. Дело в том, что по не зависящим от учреждения причинам инвестор в какой-то момент передумал, к тому же в ходе приватизации у института «оттяпали» и передали какому-то шоферу-экспедитору целых три этажа. Но, несмотря на это, институту — в основном за счет полученных международных грантов — удалось выполнить обязательства за первые два года после приватизации. Затруднения возникли по 3-му году…
В тот момент у ЗАО «НПО «Атом» появился возможный инвестор, из бизнес-плана которого правительство взяло его обязательства и своим постановлением записало их на институт. По поводу этих «повышенных» договорных обязательств по инвестициям и рабочим местам коллектив ЗАО долго и бесполезно судился с правительством, но безрезультатно. Дело в том, что по не зависящим от учреждения причинам инвестор в какой-то момент передумал, к тому же в ходе приватизации у института «оттяпали» и передали какому-то шоферу-экспедитору целых три этажа. Но, несмотря на это, институту — в основном за счет полученных международных грантов — удалось выполнить обязательства за первые два года после приватизации. Затруднения возникли по 3-му году…
Снова оговоримся, что обязательства для оставшегося один на один со стихией рынка научного учреждения — причем в стране, где начисто отсутствуют механизмы коммерциализации научных разработок — действительно неподъемные. За первые три года необходимо было создать (по годам) 23, 33 и 43 рабочих места с зарплатой 125 тыс., 150 тыс. и снова 150 тыс. драмов (при условии, что средняя зарплата в коллективе составляла… 18,6 тыс. драмов), то есть в целом за три года институту необходимо было выложить порядка полумиллиона амер. долларов, из коих 40 млн драмов в виде прямых инвестиций.
В свою очередь государство, действуя согласно букве, но явно не духу закона, за неисполнение обязательств 3-го года, во-первых, наложило на институт немалый штраф, а во-вторых, подало на него в суд. В результате перед перспективным научным учреждением реально замаячил призрак банкротства и ликвидации. «Перцу» сложившейся ситуации добавили и действия судебных исполнителей (опять же, повторимся, формально правых), которые на виду у соседей начали обходить квартиры заслуженных ученых, докторов и кандидатов, детально описывая в качестве предварительного обеспечения судебного иска личное их имущество, чем вогнали ученых в настоящий шок. В нашей стране, где на одну доску ставится тривиальная хлебопекарня без намека на какие-либо инновации и целое научное учреждение, с трудом пробивающее дорогу на мировой рынок своему изобретению, это, наверное, и неудивительно.
Как бы то ни было, теперь лишь государство может «в связи с изменением обстоятельств» изменить условия договора, дав научному учреждению шанс на выживание. На это и очень надеемся…
О нанотехнологиях сегодня не рассуждает разве что очень ленивый. Но при этом мало кто представляет во всей полноте, с чем мы имеем дело. Сразу укажем на главное обстоятельство и причину, по которой весь мир (по крайней мере его разумная часть) на этой теме «сошел с ума». Дело в том, что все наноразмерные материалы несут в себе энергосодержание нового типа, то есть бум вокруг наноматериалов в первую очередь связан с таящейся в них огромной дополнительной энергией. А в получаемых в ЗАО «Наноаморф технология» наноаморфных (некристаллических) металлах энергонасыщенность еще на порядок выше…
ЧУДО-МЕТАЛЛЫ
В отличие от своих кристаллических наноаналогов, открытые армянскими учеными наноаморфные материалы таят в себе огромную дополнительную энергию в силу элементарных законов физики, согласно которым любые аморфные тела стремятся к кристаллизации, и, соответственно, в момент их перехода в кристаллическое состояние происходит выделение гигантской энергии.
В указанном институте еще в 1995 году имели смелость поставить на баланс свою интеллектуальную собственность (технология и патент), которую сами же осторожно оценили в 40 млн драмов. А когда одна английская фирма много позже провела оценку разработки, выйдя на стоимость в… $58 млн, ученые разве что не ахнули, с трудом свыкаясь с объективной оценкой своего труда.
Видя все эти годы полное безразличие (а то и похуже: прямое желание «вставлять палки в колеса») отечественных властей, работающих не покладая рук в направлении формирования в стране инновационной экономики… без инноваций, в институте не отчаивались. Как нам рассказал директор ЗАО «Наноаморф технология», д-р физ.-мат. наук, член Инженерной академии РА Размик МАЛХАСЯН, на международные гранты им удалось сперва перейти от получаемых миллиграммов наноаморфных металлов к десяткам граммов в год, а сегодня возможно получение 15-30 граммов… в день, причем с перспективой расширения производства в десятки раз — до 100-200 кг ежегодно. Заметим, что 1 грамм указанного материала стоит на мировом рынке порядка $300. То есть пройден огромный путь от собственно идеи до организации промышленного производства наноаморфных металлов 99-й чистоты и их производных соединений. Попутно повышались узнаваемость института и его разработки в мире.
А после того как было налажено производство, в институте принялись изучать возможные области применения перспективного материала. Этих областей формально три — и все они являются производными одного и того же обстоятельства. В частности, на основе наноаморфных металлов возможно создание новых нанокомпозитов. Так, ученые из американского университета в штате Айова добавили в и без того известный своей прочностью полимер 7% указанного материала — и прочность полученного композита в 12 раз (! — А.А.) превысила таковую у исходного материала. При этом он легче даже алюминия. Таким образом, «на выходе» можно получать некий заменитель металла, который податлив к различной формовке и из которого, соответственно, можно делать все что хочешь.
 Поистине прорывным для Армении может оказаться применение наноаморфных металлов в нанолитографии. Зайдем, чтобы было понятно, о чем идет речь, несколько издалека. Если раньше была электроника, которая со временем трансформировалась в микроэлектронику, то сегодня завершается и ее эпоха. Микроэлектронику в силу исчерпанности ее возможностей неизбежно сменяет наноэлектроника. Иначе говоря, если первые «мергеляновские» ЭВМы «Наири» занимали пространство по всей стене, то сменившие их компьютеры умещались на небольшом столе, а с переходом от микрочипов к имеющим гораздо более высокую плотность наночипам то место, которое занимает современный компьютер, и вовсе сведется к «точке». И в этом деле Армения уже имеет неоспоримые преимущества, которые нужно только реализовать.
Поистине прорывным для Армении может оказаться применение наноаморфных металлов в нанолитографии. Зайдем, чтобы было понятно, о чем идет речь, несколько издалека. Если раньше была электроника, которая со временем трансформировалась в микроэлектронику, то сегодня завершается и ее эпоха. Микроэлектронику в силу исчерпанности ее возможностей неизбежно сменяет наноэлектроника. Иначе говоря, если первые «мергеляновские» ЭВМы «Наири» занимали пространство по всей стене, то сменившие их компьютеры умещались на небольшом столе, а с переходом от микрочипов к имеющим гораздо более высокую плотность наночипам то место, которое занимает современный компьютер, и вовсе сведется к «точке». И в этом деле Армения уже имеет неоспоримые преимущества, которые нужно только реализовать.
Речь о проекте ЗАО «Наноаморф технология», именуемом «Применение наноаморфных материалов в нанолитографии». Сегодня нанолитография основывается на кристаллах, но имеется одна серьезная проблема — их закрепление на подложке. К примеру, российская авиастроительная корпорация «Сухой» также вынуждена решать подобную задачу, как бы «механически» закрепляя необходимые наноструктуры (стелс покрытие) на поверхности крыла — при том что наноаморфные материалы при необходимости могут перевести указанное покрытие в такое же, как у крыла, кристаллическое состояние, причем, как было указано выше, с выделением энергии и как бы сваривая их на месте за счет этой энергии. Все это совершенно новые понятия, вытекающие из самой природы аморфности. То есть речь идет о создании многослойных аморфно-кристаллических гибридных систем, резко расширяющих элементную базу для создания наночипов нового поколения.
К тому же все ныне существующие полупроводниковые чипы работают в температурном режиме, не превышающем 100 градусов Цельсия, а полупроводниковые наносоединения ведут себя безукоризненно при тепловых нагрузках вплоть до 550 градусов.
И наконец, эти наноаморфные материалы сами по себе являются сверхчувствительными сенсорами-датчиками — температуры, влажности, различных газов и т.п. И это еще одна сфера применения открытого армянскими учеными наноматериала…
ЗАПЯТАЯ, ЗАПЯТАЯ… БУДЕТ ЛИ ТОЧКА?
Повторимся, разработанная армянскими учеными технология, будучи воплощена в жизнь, может резко изменить экономический облик страны, но… И тут-то кроется та самая вынесенная в заголовок «запятая», барьером ставшая на пути наноаморфных материалов.
Дело в том, что по приватизационной программе 2003 года ЗАО «НПО «Атом» (так раньше именовалось ЗАО «Наноаморф технология») перешло в частные руки в 2005 году. Здесь укажем, что в целях сохранения кадрового потенциала и собственно науки, согласно закону, научные учреждения в нашей стране приватизируются по особой концепции — в частности, такие объекты передаются самим их коллективам. (От себя заметим, что и без того работающие коллективы не только научных учреждений, как правило, имеют первоочередное право на приватизацию своего предприятия.) Однако коллектив указанного института, прямо скажем, не горел желанием лишиться статуса госучреждения, хотя понимал, что частнику будет несколько легче действовать на международном рынке. (Между прочим, многие институты из упомянутого приватизационного списка смогли избежать разгосударствления — и ничего…)
 В тот момент у ЗАО «НПО «Атом» появился возможный инвестор, из бизнес-плана которого правительство взяло его обязательства и своим постановлением записало их на институт. По поводу этих «повышенных» договорных обязательств по инвестициям и рабочим местам коллектив ЗАО долго и бесполезно судился с правительством, но безрезультатно. Дело в том, что по не зависящим от учреждения причинам инвестор в какой-то момент передумал, к тому же в ходе приватизации у института «оттяпали» и передали какому-то шоферу-экспедитору целых три этажа. Но, несмотря на это, институту — в основном за счет полученных международных грантов — удалось выполнить обязательства за первые два года после приватизации. Затруднения возникли по 3-му году…
В тот момент у ЗАО «НПО «Атом» появился возможный инвестор, из бизнес-плана которого правительство взяло его обязательства и своим постановлением записало их на институт. По поводу этих «повышенных» договорных обязательств по инвестициям и рабочим местам коллектив ЗАО долго и бесполезно судился с правительством, но безрезультатно. Дело в том, что по не зависящим от учреждения причинам инвестор в какой-то момент передумал, к тому же в ходе приватизации у института «оттяпали» и передали какому-то шоферу-экспедитору целых три этажа. Но, несмотря на это, институту — в основном за счет полученных международных грантов — удалось выполнить обязательства за первые два года после приватизации. Затруднения возникли по 3-му году…
Снова оговоримся, что обязательства для оставшегося один на один со стихией рынка научного учреждения — причем в стране, где начисто отсутствуют механизмы коммерциализации научных разработок — действительно неподъемные. За первые три года необходимо было создать (по годам) 23, 33 и 43 рабочих места с зарплатой 125 тыс., 150 тыс. и снова 150 тыс. драмов (при условии, что средняя зарплата в коллективе составляла… 18,6 тыс. драмов), то есть в целом за три года институту необходимо было выложить порядка полумиллиона амер. долларов, из коих 40 млн драмов в виде прямых инвестиций.
В свою очередь государство, действуя согласно букве, но явно не духу закона, за неисполнение обязательств 3-го года, во-первых, наложило на институт немалый штраф, а во-вторых, подало на него в суд. В результате перед перспективным научным учреждением реально замаячил призрак банкротства и ликвидации. «Перцу» сложившейся ситуации добавили и действия судебных исполнителей (опять же, повторимся, формально правых), которые на виду у соседей начали обходить квартиры заслуженных ученых, докторов и кандидатов, детально описывая в качестве предварительного обеспечения судебного иска личное их имущество, чем вогнали ученых в настоящий шок. В нашей стране, где на одну доску ставится тривиальная хлебопекарня без намека на какие-либо инновации и целое научное учреждение, с трудом пробивающее дорогу на мировой рынок своему изобретению, это, наверное, и неудивительно.
Как бы то ни было, теперь лишь государство может «в связи с изменением обстоятельств» изменить условия договора, дав научному учреждению шанс на выживание. На это и очень надеемся…