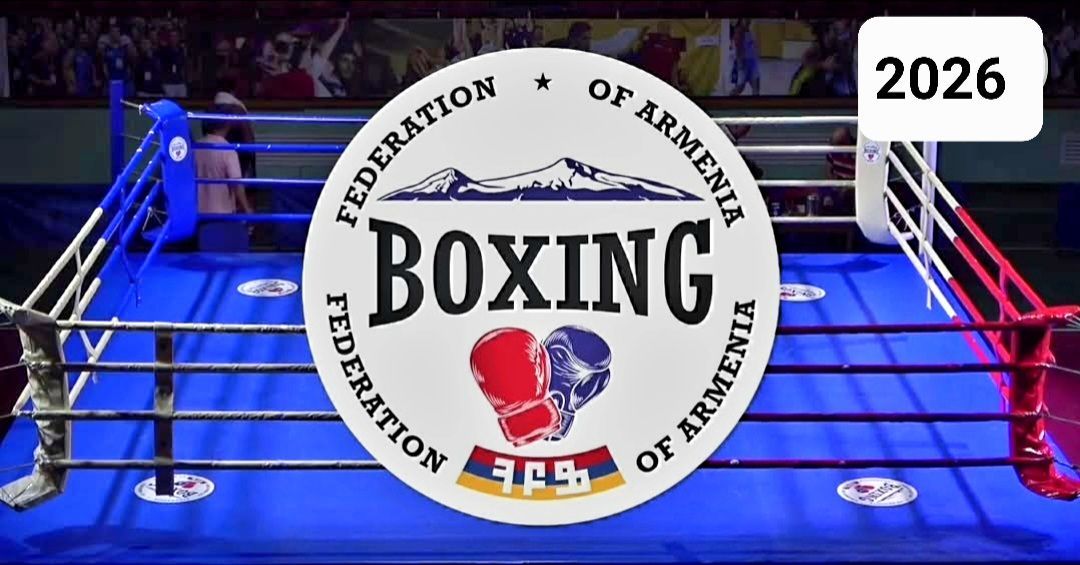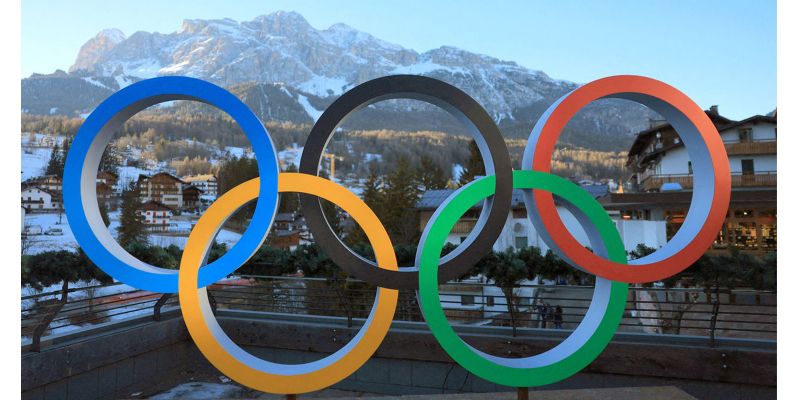— Ваша диссертация «Росписи Ахталы» посвящена уникальному армянскому памятнику — ахталинскому монастырю. Что послужило поводом для выбора именно этой темы?
— Я закончил отделение «История искусства» Московского государственного университета в качестве специалиста по искусству Византии, но волей судьбы стал работать в Музее искусства Востока, где не занимались христианским искусством. Я понял, что не хочу бросать свою любимую Византию, проблематику христианского Востока и в итоге сам пробил исследования по восточно-христианской тематике, прежде всего по средневековому христианскому искусству Армении и Грузии, потому что в музее действовал отдел «Искусство Кавказа». Так я заинтересовался очень важным памятником, находящимся на границе Армении и Грузии, — монастырем Ахпат, который в средние века был не только важной крепостью, но и главным духовным центром в этом регионе. Пять лет посвятил написанию диссертации и книги по исследованию росписей Ахталы и, соответственно, армянского искусства, поскольку без понимания невозможно было понять и интерпретировать этот важнейший памятник. До сих пор моя книга, которая вышла на английском языке в 1991 году, остается единственной монографией о росписях Ахталы. Кстати, сейчас одно из московских издательств выразило желание издать книгу на русском языке и, может быть, даже сделать новое английское издание, но с более подробными иллюстрациями, потому что этот памятник действительно шедевр мирового искусства, еще недостаточно оцененный.
 — Почему книга была издана на английском языке?
— Почему книга была издана на английском языке?
— Это случайность. 1991 год был очень трудным во всех отношениях, в том числе и для книгоиздательства. Тогда в Москве проходил Всемирный византийский конгресс, на который приехали сотни исследователей. И издательство «Восточная литература» решило выпустить в свет книгу на английском, чтобы продавать ее на конгрессе. Благодаря этому изданию (книга вышла тысячным тиражом) памятник стал достаточно известным в мире, потому что книга имеется во всех ведущих библиотеках. Собственно говоря, это единственное подробное издание об этом армянском памятнике монументальной живописи.
— В этот приезд, спустя много лет, вы посетили Ахталу. Ваши ощущения…
— Во-первых, я рад был вернуться в любимое сакральное пространство, где провел много дней. Когда я писал диссертацию, меня запирали в этом храме. Иногда я работал там по пять часов, часто без еды и воды, можно сказать, жил там. Так что это для меня родное место. Во-вторых, было очень приятно после долгого отсутствия увидеть это пространство как единое целое, потому что убрали леса и теперь храм можно увидеть во всей его красе и мощи. Ничего сравнимого на территории Армении в области монументального искусства невозможно назвать. Это памятник N1. Но меня шокировало, что в этом крупнейшем армянском монастыре на севере Армении всего один священник, он же настоятель, который приехал сюда из Ливана. В беседе со мной он отметил, что очень мало людей приходит в церковь на службу… Мне даже стало немножко грустно.
— Как в этом плане обстоят дела в России?
— У нас давно происходит религиозный Ренессанс. В 1988 году по всей России насчитывалось 16 действующих монастырей, сейчас их около семисот. Продолжается их восстановление, возрождается духовная жизнь. Но отношение к религии очень разное. Приведу статистику: 70% россиян называют себя православными, из них на Пасху — главный церковный праздник — в храмы ходят от 5 до 10%, то есть люди называют себя православными, имея в виду свое происхождение, культуру, традиции, желая иметь какую-то связь с религией, но при этом никакого реального общения с церковью нет.
— Расскажите, пожалуйста, о книге «Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография» сакральных пространств».
— Это международный проект, в котором были задействованы ученые из разных стран. Армения представлена очень интересной и важной статьей моего друга Армена Казаряна «Новый Иерусалим в пространственных концепциях и архитектурных формах средневековой Армении», в которой впервые сделана попытка систематизации наших знаний о том, как тема Нового Иерусалима и Небесного Иерусалима влияла на развитие армянской духовной культуры, в первую очередь архитектуры. Мне кажется, что эта работа очень важна для арменоведения.
В процессе работы над книгой был осознан на первый взгляд простой, но очень важный момент: что создание Новых Иерусалимов, т.е. воспроизведение Святой земли в географически удаленных пространствах, будь то в России, Армении или в Италии, является неким стержнем и основным направлением развития общехристианской культуры. Именно создание этих сакральных пространств, т.е. среды для общения человека с Богом, способствовало тому, что потом вокруг них появлялись все остальные формы культуры — духовная книжность, архитектура, изобразительная традиция.
 — Что означает слово «иеротопия»?
— Что означает слово «иеротопия»?
— Оно состоит из двух греческих корней: иеро — священный, топос — место, пространство. Речь идет о сакральных пространствах, которые рассматриваются как особый вид духовного творчества и, соответственно, область исторических исследований, которые изучаются как образцы данного иеротопического творчества. Возможно, эта книга стимулирует развитие иеротопических исследований в Армении, которая, по-моему, имеет для таких исследований богатейшую почву. Речь идет не только о христианской традиции, а гораздо более длительном историческом периоде.
— У вас есть друзья в Армении?
— Год назад ушел из жизни мой старый друг — выдающийся историк Армении и России Карен Юзбашян. Для меня этот человек воплощал нерасторжимое единство российского и армянского народов, наших культур, русско-армянской интеллигенции, потому что он был плоть от плоти представителем армянского народа, большим патриотом Армении и ее исследователем, но при этом он был, что называется, до мозга костей русским интеллигентом. Мне кажется, что такие люди — наше общее достояние. И, когда они уходят, остается невосполнимая брешь… Среди моих давних и близких друзей — выдающийся армянский историк Паруйр Мурадян, которому я многим обязан, в первую очередь знанием армянских и грузинских источников. Это особенно было необходимо в то время, когда я работал над своей диссертацией.
Я был рад видеть всех моих ереванских друзей и коллег. С другой стороны, появился и оттенок грусти, потому что некоторые из них не были в Москве лет 20, другие — 10-15. Выясняется, что армянским коллегам легче поехать в Париж или Лос-Анджелес, чем оказаться в Москве или Санкт-Петербурге. Это не просто грустно — в этом, я бы сказал, есть элемент трагедии. И потому очень важно предпринять серьезные усилия, чтобы восстановить прежние связи. И слава богу, что наконец с этой целью созданы две организации: Российский фонд международного гуманитарного сотрудничества и представительство Федерального агентства «Россотрудничество» в Армении. Очень хочется верить, что эти две структуры переломят печальную ситуацию. Понятно, что очень многое зависит и от наших личных усилий, но в той сфере, о которой мы говорим — в науке, культуре, — без государственной поддержки обойтись невозможно. Мне кажется, нам всем надо подумать, как использовать эти вновь открывшиеся возможности и сделать канал связи между учеными-гуманитариями и деятелями культуры постоянно действующим.