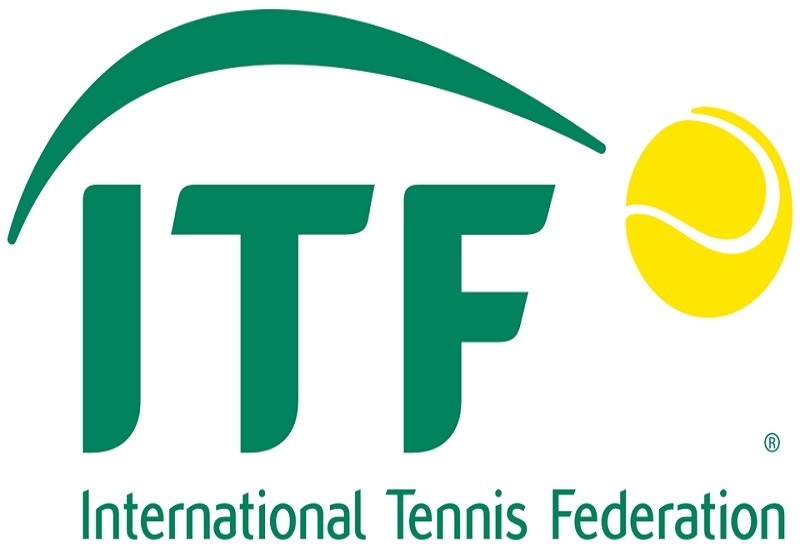"ОН, КАК ЛЕВ, БОРОЛСЯ ЗА КАЖДУЮ НОТУ"
Все последнее время Юрий Григорович в каждом своем интервью охотно рассказывает об Араме Хачатуряне. Еще бы: получить для постановки (что и говорить, блестящей) такую бессмертную музыку!
— "СПАРТАК" — СПЕКТАКЛЬ, КОТОРЫЙ Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ. ЛЮБЛЮ В НЕМ ВСЕ, НО БОЛЬШЕ ВСЕГО МУЗЫКУ. Ведь когда звучит такая музыка, хочется встать и начать танцевать. Но, боже мой, как тяжело давалась мне перекомпановка редакции, любое сокращение музыкальной ткани! Арам Ильич, как лев, боролся за каждую ноту. Когда он брался за подтяжки — это было грозным знаком. Раздавалось рычание. Как я его понимал! Ведь он считал, что я кромсаю его дитя. Но не может же балет идти пять часов. А именно столько было написано музыки. Великолепной, не спорю. И я ввел все это великолепие в рамки.
Когда Хачатурян брался за подтяжки, я незаметно исчезал. "Где Григорович?" — хватался Арам Ильич. "Уже ушел", — говорили домашние. "Как ушел!" Вот когда раздавался рык.
ГРАФ ЖЕНИЛСЯ НА ПРИНЦЕССЕ
Цецилия Мансурова (Мансурян). Главная прима Вахтангова, потом Рубена Симонова. Самая первая Принцесса в "Принцессе Турандот". За ней ухаживал граф Николай Шереметьев. Получилось как в сказке — граф женился на принцессе. Он из-за нее не уехал в эмиграцию, на ее глазах он порвал железнодорожный билет.
ОДНАЖДЫ, УЖЕ В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ, СУПРУГИ ПОШЛИ В РЕСТОРАН. К ним долго не подходил официант. Тогда граф легонько постучал ножом о бокал — дескать, пора подойти и принять заказ. Официант пронесся мимо и презрительно бросил на бегу: "Подождешь, не граф Шереметьев!"
ТАКИЕ ЛИЦА В СТАРИНУ НАЗЫВАЛИ БОЖЕСТВЕННЫМИ
Исполнилось 50 лет со дня смерти Грачья Нерсисяна и самоубийства Эрнеста Хемингуэя. Какое оглушительное впечатление произвела проза Хемингуэя, впервые появившись на русском языке. Да и сама фигура Папы Хема, такая необычная в писательской среде. Тогда мы еще не знали намного превосходивших его Джеймса Джойса и Борхеса. Вот что значит благодетельное время: оно все ставит на свои места, сообщает любому масштабу его истинное значение.
ГРАЧЬЯ НЕРСИСЯН. Я ПОМНЮ ЕГО, СТРЕМИТЕЛЬНО ИДУЩЕГО В СЕНИ ЧИНАР возле Большого зала филармонии. Почти каждый день и почти всегда в сопровождении нескольких спутников. Серое просторное пальто из габардина, выразительная нервная жестикуляция дрожащих рук с неизменной сигаретой. Я бы сказала — трепетных рук. Он часто заносил их за спину, скрещивая ладони, — жест сугубо восточный, думаю, незапамятно-архаичный. Жест отдыхающего и размышляющего земледельца, гуляющего по осенней тропинке над пашней. Так ходит тот, кто гуляет в раздумье.
Крупное лицо в глубоких и тоже крупного мазка морщинах. Словно природа решила в данном случае не давать ничего мелкого, стертого, невыразительного. И, естественно, такое лицо должны были освещать огромные глаза. Просто большие не подошли бы. Излишне говорить, что щедрость их сияния останавливала даже тех, кто не знал, что перед ним Грачья Нерсисян. Глубь этой голубизны, величину ее не передал до сих пор ни один живописный портрет, ни один кинокадр. Такие лица, такие глаза в старину называли божественными.
Что было всего поразительней в Грачья: внешняя лепка, темперамент, актерский диапазон, обаяние личности, глубина человечности, стихийная неистовость? Странно, что мы называем шедевром только творение руки человеческой.
Я помню, как провожали его в последний путь. Такого поклонения не приходилось мне видеть ни до, ни после. То была сама любовь к театру в чистом виде.
И ВСЕ-ТАКИ КОЗЛИНЫЙ ПЕРГАМЕНТ БЫЛ
Недавно в лекции цикла "Академия" на телеканале "Культура" Александр Николаевич Ужанков привел слова Иешуа, сказанные Понтию Пилату в романе "Мастер и Маргарита" Булгакова: ходит тут один и записывает за мной на козлином пергаменте… "Козлиных пергаментов не было, — уточняет Ужанков, — были лишь овечьи и бычьи. Получается чуть ли не намек на козла отпущения"… Так сказал Ужанков.
НО ЕСЛИ БЫ УЧЕНЫЙ ПОЗВОНИЛ В МАТЕНАДАРАН, он бы узнал, что козлиные пергаменты были. Для изготовления пергамена кожу животных мочили в известковом растворе, потом натягивали на рамы, скребли, снимая жир. Лучшим считался как раз козлиный пергамент, дававший чистый белый цвет, не отливавший желтизной.
Братушки
Святой отец Всеволод Чаплин в передаче "Земля и люди" на телеканале "Мир" сказал 12 июля 2011г. следующее: "Есть народы, которые любят чувствовать себя жертвами. Это сербы и армяне, при всем моем уважении к интеллектуальному и творческому потенциалу армян".
Ну что ж, таков взгляд на нас благожелательного и умного человека, и в этом надо разобраться. Что мы любим ныть по поводу своего действительно тяжелого прошлого и не менее тяжелого настоящего — с этим не поспоришь. Значит, мы ноем по поводу всего этого чуть чрезмерней, чем следовало бы, раз это бросается в глаза стороннему, пусть и благожелательному наблюдателю. Тем более что недоброжелательных куда как больше.
ВЫВОД НАПРАШИВАЕТСЯ ОДИН: СДЕРЖАННЕЕ НАДО БЫТЬ. Это не легко, но этому нужно научиться. Надо уметь видеть себя со стороны.
Конечно, нас и сербов могло бы извинить то, что в нашей самоидентификации себя с жертвой все-таки заключена правда, что знак геополитической невыносимости все-таки повис (и давно) над нашими головами, но все равно жертва ты или не жертва, надо уметь быть сдержанным, мужественным, стойким. Более того, все свои беды надо решать самим, надеяться только на себя. Для малых, стиснутых со всех сторон народов это трудно, кто спорит. Но силу надо вырабатывать только в себе, не ожидая что-то извне, тем более что извне может прийти что-то не то или не совсем то.
Вслушиваясь в благожелательные слова Отца Всеволода Чаплина, я не могла не задуматься над тем, что какая-то нестыковка между этим положением жертвы и реальностью все же есть. Ведь и сербы, и армяне — это мужественные народы, отменные вояки. Единственные во всей Европе, кого не смог завоевать Гитлер, были как раз сербы (в Англию он просто не посмел пойти). А турецкий полководец Веиб-паша в 1918 году назвал армян "лучшими воинами на свете". Да и разве недавнее взятие Шуши не продемонстрировало то же самое? Но вот поди же ты, протест против выдачи Младича Гаагскому трибуналу был до странности жидковат. И при этом и у сербов, и у армян вечный молящий взор и надежда на Россию. "Русские братушки" — говорят сербы. Слово-то какое сердечное — братушки. Увы, в 1998 году Ельцин не встал на защиту вековых братьев, сдал их американскому бомбовому натиску. Да и Гаага оказалась более благосклонной к албанцам, чем к несчастным сербам, наплевав даже на то, что албанцы извлекали органы у пленных сербов и что к этому был причастен президент сегодняшней Албании Хашим Тачи. Ну что тут скажешь! Жертве вложили в рот кляп, да еще и устыдили ее известным "Что ты ржешь, мой конь ретивый?" А конь потому и ржал, что чуял неладное. И прежде всего в стане славян (с НАТО, как говорится, взятки гладки).
Считаются только с сильными. Значит, надо стиснуть зубы и стать сильнее. И даже извлечь из бед пользу. И упования отложить до лучших времен. Лучше — навсегда. Пусть жертва трижды права, пусть упования ее святы. Но стойкость, идущая изнутри, еще более свята. Так что, славяне и армяне, по духу мы навеки братушки. А вот небратушек уж больно много развелось. Отпор будем вырабатывать сами. И если сетовать, то только в собственную подушку. А выходя по утру с плугом из дома, сумеем, как и всегда, мгновенно превратить этот плуг в меч, как сказал в "Авесте" арийский пророк.
 НЕ СЕВШИЙ НА "ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД"…
НЕ СЕВШИЙ НА "ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД"…
Когда в 1922 году из России отплывал пароход с выдворенными русскими философами и литераторами, увозивший в насильственную эмиграцию Бердяева, Сергея Булгакова, Ивана Ильина, Франка, Карсавина, братьев Трубецких и прочих, один великий (если не величайший, его называли "русским Леонардо") философ все же остался. Это был Павел Флоренский.
ОН БЫЛ СЛИШКОМ СВЯЗАН НЕ ТОЛЬКО С РОССИЕЙ, но и с Кавказом, поэтому уехать никак не мог. Правда, ни Ильина, ни Бердяева и прочих не спрашивали, хотят ли они остаться, их просто попросили из страны и усадили на "философский пароход". Но Флоренский был упрям: древнейший армянский род Сапаровых держал его. И советская власть отступила. Отступила, правда, на время, ибо потом все же убила его. Участь его была ужасна, но благородству его души в 1922 году следует поклониться.
Сегодня, к счастью, никто никого ни на какие "философские пароходы" не сажает, никто никого не выдворяет в насильственную эмиграцию с родной земли, но да будет нам сегодня примером благородный поступок Святого отца Павла Флоренского перед лицом заманчивых миграционных волн, которые вымывают соль земли, соль родной земли. Единственной нашей земли, ибо другой у нас нет. Да другой нам и не надо: сыщем ли слаще этой?.. Никогда и нигде.
А о роде Сапаровых, давшем "русского Леонардо", я еще напишу. Мало кто из армян был так благодарен своим древним корням, как Павел Александрович Флоренский.
 "УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ Я ЖИВУ БЕЗ АРОЧКИ…"
"УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ Я ЖИВУ БЕЗ АРОЧКИ…"
Писательница Нора Адамян, которую сегодня мало кто помнит, оставила воспоминания об Александре Ивановиче Таманяне. В них есть бесценное свидетельство, которое остановило мое внимание.
ВСТРЕТИВ ЕГО КАК-ТО НА УЛИЦЕ В 1936 ГОДУ, она потрясена была его сокрушенным видом. "Уже две недели я живу без Арочки", — горестно сказал он.
Арочка, последний его ребенок после двух старших сыновей, умерла в 16 лет от пневмонии. Отец был безутешен, и вскорости умер и он. Могу себе представить, что вынесло сердце великого зодчего, которому и без этого последнего великого горя хватало ударов. Ведь с каким трудом продвигалось строительство Театра!
Жил не просто скромно — скромнейше. И когда ему предложили стройматериалы для постройки дачи, он робко сказал: "Если у вас есть цемент, дайте мне для театра".
Такой личностью можно только любоваться. Смерть горячо любимой Арочки была для него не просто ударом — последней каплей.
"АСТВАЦАИН САША"
В последние два месяца жизни Ованеса Туманяна очень мучили боли в печени (видимо, это была опухоль). И только нежные звуки кяманчи, когда приходил Саша Оганезашвили, немного облегчали страдания Туманяна.
"АСТВАЦАИН САША", ГОВОРИЛ ПОЭТ о выдающемся кяманчисте. И впрямь, сын армянина и грузинки, Саша Оганезашвили был в Тифлисе лучшим исполнителем на струнных инструментах. Его игра была действительно божественной. Кстати, еще Амирдовлат Амасиаци советовал использовать музыку в качестве лечебного средства. И именно струнные инструменты как наиболее нежные и ласкающие.
ТРОЕ АРМЯН
Сначала музыку к кинофильму "Семнадцать мгновений весны" Татьяна Лиознова предложила написать Арно Бабаджаняну. Он отказался. Его отпугнуло то, что фильм был многосерийный. Музыки требовалось много, а он был нездоров.
ТОГДА ОБРАТИЛИСЬ К МИКАЕЛУ ТАРИВЕРДИЕВУ. Так встретились трое армян: Таривердиев, Арно Бабаджанян и Татьяна Лиознова (потомок дореволюционных московских армян-промышленников Лиозновых) — и создали лучший и самый легендарный фильм 70-х годов "Семнадцать мгновений весны".
ПСЕВДОНИМ…
Уже написав статью об Андрее Белом в связи с его блистательным очерком "Армения", я прочла в одной из рецензий в "Литературной газете" от 2 марта 2011 года следующее:
"НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЛИТЕРАТУРА ОБ АНДРЕЕ БЕЛОМ СТАЛА ПОЯВЛЯТЬСЯ, ее все же недостаточно, ибо речь идет о фигуре планетарного масштаба. В США вышло 18-томное академическое собрание сочинений Андрея Белого, у нас о подобном речи пока не идет. В общественном сознании утвердилась "великолепная пятерка" ведущих модернистов XX века — Джойс, Кафка, Пруст, Музиль и Набоков. Но все громче звучат голоса тех, кто считает, что этот список должен быть дополнен именем Андрея Белого. В книге "Одинокий гений Серебряного века" даже выбору его псевдонима посвящена отдельная глава, настолько глубокий смысл заложен в нем, в каждой его букве. Забавно и то, что Троцкий воспринимал псевдоним писателя как доказательство его белогвардейских настроений. Но это нам забавно, а тогда было совсем не смешно".
Да уж, добавлю от себя, забавного в чуть ли не расстрельной характеристике Троцкого мало… Этой "наганной личности" и в голову не приходило, что псевдоним Белый Андрей Бугаев (таково настоящее имя Андрея Белого) взял еще задолго до революции. Очень, очень задолго — то есть тогда, когда ни о какой революции еще не было и речи. "Белым" он был с самого начала своего литературного пути.
Впрочем, скорее всего, Троцкий все знал, но хитрил.
Что же касается упомянутых в "великолепной пятерке" ведущих модернистов XX века, то как-то даже неловко сравнивать Кафку и Музиля с Андреем Белым… Гений и средние таланты — разные вещи.
СТЕНА
Насмотрелись армяне за тысячелетия на стены голых гор, почему и в зодчество вошло это фундаментальное понятие — каменная стена. Чаще всего гладкотесаная. Не окна, не колонны, а именно стена. И верхний свет (ердик).
РАФО ИСРАЕЛЯН ВЫРАЗИЛ ЭТО АРМЯНСКОЕ НАЧАЛО КАК НИКТО ДРУГОЙ после средневековых армянских мастеров.
Однажды он появился на каком-то праздничном мероприятии с букетом полевых цветов и сразу смазал картину букетов. Он любил все живое, природное, натуральное. Улыбающийся безгалстучный Рафо (он не любил все то, что душит). "Вайелек кьянкин!" — были его любимые слова. Интересно, как бы он отнесся к Северному проспекту? Жаль, нельзя спросить…
ДУШЕВНАЯ ТЕПЛОТА АРМЯНСКОГО ДУХА
Рыцарский автопортрет Минаса с колючкой в руках. Прекрасен и натюрморт Ваника Шарамбеяна — тот, где ваза с колючками. Верблюжья колючка, репье, чертополох. Отверженные дети растительного мира. Рыжая, выцветшая цветовая гамма.
И ШЕРШАВАЯ КИСТЬ МАРТИРОСА САРЬЯНА. Как армянский туф — бесконечно богатая цветом, пламенная и шершавая. Теплый занозистый вулканический камень. Такова и армянская душа.
Армения кажется горестной. Но если всмотреться, то на каждом шагу дух жизнеутверждения.
Пылкая, но и застенчивая природа армянской души. Душевная теплота этого духа.
1936 год. Аветик Исаакян только что навсегда возвратился в Армению. Душа его полна ликования и счастья, он готов расцеловать каждого встречного соотечественника, даже каждый камень в стенах храмов. В безукоризненно сшитом европейском костюме он гуляет по Еревану. Все кланяются ему, варпету и национальной гордости.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОПЕРЫ УЖЕ НАЧАЛОСЬ. Камнетесы умело и любовно работают с серым базальтом на главной улице города. Обтесывая камни, они напевают. "Сиреци, ярс таран…" — громко, с чувством напевает один из мастеров. Исаакян замирает от восхищения. Вот что невозможно было для него в Венеции — услышать, как созданное широко пошло в народ. Поэт подходит к мастеру ближе:
— Что это ты поешь?
Камнетес, который, конечно, никогда в глаза поэта не видел, окидывает презрительным взглядом лоск европейского костюма и заморскую шляпу праздношатающегося интеллигента и произносит:
— Гна, гна, да ко хелки бан че! (Иди, иди, это не твоего ума дело!). То есть что ты, чужак, можешь понять в наших народных песнях!
Исаакян понимает: это высший миг признания, выпадающий не любому творцу.
ГРИФОН
Национальный герб Армении — грифон (Орел и Лев), то есть символы Свободы и Власти.
В СРЕДНИЕ ВЕКА ГРИФОН БЫЛ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН В ГЕРАЛЬДИКЕ. Он символизировал синтез лучших качеств орла и льва: бдительность и отвагу одного, а также соединение ума и силы другого.
Да, царственная птица и царь зверей.
Львы в нашей ойкумене водились не просто издревле, а, можно сказать, всегда. Даже сегодня при почти повсеместном их истреблении они все еще водятся в Иране, иногда забредая и в Армению, в частности, в Хосровский заповедник. Как и орлы, которые даже в сверхогнестрельный век еще не истреблены до конца в высоких горах.
Эта связь живой жизни с национальными символами прекрасна.
"ОПЕРЕДИТЬ ЕГО НЕ УДАВАЛОСЬ НИКОМУ"
Середина 80-х годов. Хлынула перестройка. Слишком много болтовни и неустойчивости, но все-таки эпоху прочистило.
ПИШУ ПОРТРЕТ АГАСИ ХАНДЖЯНА. Еще, к счастью, живы многие из тех, кто знал его. И каждый раз, беседуя с очевидцами, я поражаюсь тому, как точно и ярко характеризуют личность мгновенно схваченные детали. Рассказывая о Ханджяне, одна из учительниц ереванской школы (в прошлом еще и активистка) с улыбкой призналась, что Агаси Гевондович был не просто аккуратен и точен: "Сколь рано не приду на собрание, а он уже сидит в президиуме. Опередить его не удавалось никому".
"ВСЕ ОНИ В ТВОЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ"
Представляя Андранику своих четверых сыновей, Ованес Туманян сказал: "Все они в твоем распоряжении".
ТЕМ, КТО СЕГОДНЯ СТАРАЕТСЯ, ЧТОБЫ ЕГО СЫНОВЬЯ ОТКОСИЛИ ОТ АРМИИ, в том числе и отъездом из Армении, хорошо бы помнить эти слова Туманяна. А также слова одного из известных русских художников, который, когда его хотели вывезти на самолете из блокадного Ленинграда, сказал: "Из осажденной крепости не бегут — ее защищают".
ИЗ ДВУХ ДРЕВНИХ РОДОВ
Постоянно упоминаются в мемуарах и исследованиях о Пушкине африканские страсти, африканский темперамент поэта. Заблуждение, принадлежащее какому-то слепому современнику, с тех пор бездумно всплывает все снова и снова.
ПРАДЕД ПУШКИНА АБРАМ ГАННИБАЛ БЫЛ СЫНОМ ЦАРЯ, ТОЧНЕЕ, ЭФИОПСКОГО КНЯЗЬКА. А Эфиопия (Абиссиния) — это исток древнеегипетской цивилизации: началось все в горной местности в верховьях Нила и только потом спустилось в плодороднейшие долины низовьев Нила. Недаром самый первый человек на земле отсюда, из Эфиопии.
Так что русский аристократ Александр Сергеевич Пушкин (Пушкины тоже были древним родом и родовиты были не менее Ганнибала), происходя из таких славных родов, которыми он гордился, дикими африканскими страстями наделен быть никак не мог. Недаром мерой его стиха, его художественной манеры были великая гармония, великая уравновешенность, приводившие всех в восхищение и с тех пор больше не повторившиеся. Как говорится, да, из Африки, но это смотря из какой ее части. Древние египтяне тоже из Африки…
ДОКТОР ГРО
Когда я собирала факты о жизни Александра Афанасьевича Спендиарова, намереваясь написать его портрет, с ужасом поняла, что упустила саму возможность живого рассказа. Вот она, слепота молодости! Возможность эта была навсегда упущена. Я имею в виду профессора Гро, врача, которого хорошо знала и который был за день до смерти Спендиарова у него в больнице. Увидев знакомого доктора, композитор кротко улыбнулся ему.
СКОЛЬКО ЖЕ МОГ РАССКАЗАТЬ МНЕ О СПЕНДИАРОВЕ СТАРЫЙ ПОДТЯНУТЫЙ ПРОФЕССОР ГРО, КОТОРОГО в городе продолжали называть по-старинному "доктор"! Высокий, красивый, холеный, аккуратный, прекрасный психиатр, на которого молились пациенты. Было в нем много от старой медицины, от той ее блистательной эпохи, когда личность врача значила больше, чем лекарства, прописанные больному. Явление доктора Гро было уникально именно благодаря той атмосфере покоя, умиротворенности, тишины, которые он тотчас вносил с собой. Возможно, и к Спендиарову он пришел, чтобы утешить, успокоить взволнованного больного, сердце которого уже много лет внушало опасение врачам. Иначе чем объяснить появление психиатра у больного пневмонией? Или тогда он еще не практиковал как психиатр?
Лишь после смерти доктора Гро я узнала, что он стоял у смертного одра Спендиарова. Горько было, вероятно, ему возвращаться к думам о врачебном бессилии перед исстрадавшимся сердцем великого пациента. Ведь не воспаление легких оборвало жизнь Александра Афанасьевича, а больное сердце, не выдержавшее еще одной нагрузки. Тяжелые были годы. Но именно в это тяжелое время совершен был подвиг: человек с нездоровым сердцем, с детства боящийся холода, бросает побережье Крыма и поселяется в высоких горах с их разреженным воздухом, смертельным для сердечников. Бросает насиженный быт и едет в неуют единственно по зову совести и долга, чтобы помочь своему народу утвердиться и в музыке, как он уже утвердился в архитектуре и литературе. За таким подвигом всегда стоит личность.
Небольшая клиника нервно-психических болезней, в которой работал доктор Гро, стояла на берегу реки Гедар, неподалеку от позже возведенного памятника Вардану Мамиконяну, в том месте, где ныне проходит Кольцевой бульвар. Просторной красивой стала улица, и маленький одноэтажный домик клиники из векового туфа канул в небытие. Уничтожимость земных следов — с этим ничего не поделаешь.
 ВАЛЬС
ВАЛЬС
Одно из самых духоподъемных исполнений знаменитого, великого вальса Арама Хачатуряна, написанного им к драме Лермонтова "Маскарад", которая ставилась в театре имени Вахтангова, принадлежит, несомненно, пианистам Брижит Анжерер и Борису Березовскому. Вошедшее недавно снова в моду исполнение на двух роялях подарило незабываемое впечатление.
ПРОГРАММА СОСТАВИЛАСЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ: сюита из музыки к балетам Чайковского, Половецкие пляски из оперы Бородина "Князь Игорь", Лист и в самом конце — бессмертный вальс Хачатуряна. Такой громовой овации я давно уже не слышала. Духоподъемность музыки подняла на ноги весь зал. И характерно, что этот искрящийся, праздничный, пронизанный великолепием вальс исполнители поставили в конец программы. Сочное, блистательное завершение этого прекрасного вечера.
"АРТИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАИВНЫМ"
Раз уже я коснулась театра имени Вахтангова и "Маскарада", поставленного Рубеном Симоновым (ведь знаменитый вальс был написан Арамом Хачатуряном именно по просьбе Рубена Симонова), то расскажу еще вот о чем.
ПРИСТУПАЯ К ПОСТАНОВКЕ "ЖИВОГО ТРУПА" ЛЬВА ТОЛСТОГО, Рубен Симонов пригласил на роль Маши совсем еще молоденькую Людмилу Максакову. Подспудная мысль была: надо ведь петь "Невечернюю", а Людмила — дочь маститой певицы Максаковой. Рубен Николаевич уже завершал в ту пору жизненный путь, Людмила Максакова — только начинала свою театральную карьеру. Стар и млад встретились. И какой же благодарной оказалась ученица! Сегодня она не устает говорить о Рубене Николаевиче, находя все новые и новые слова и новые краски, особенно неповторимо передавая его последнее напутствие ей: "Актер, Людочка, должен быть наивным".
Вот и Василий Ливанов, недавно отметивший свое 75-летие, рассказал о Рубене Симонове следующее. Ливановы — люди разносторонне одаренные, так что и Василий Борисович рисовал с детства, школу окончил при Академии художеств, но поступил все-таки в Щуку. Отец (знаменитый актер Борис Ливанов) поначалу отрицательно отнесся к решению сына продолжить семейную традицию. Когда сын пришел и сказал, что поступил в Щукинское училище, отец позвонил Рубену Николаевичу Симонову и попросил его еще раз проэкзаменовать сына. Борис Ливанов очень опасался, что сын пойдет по фальшивому накату, присоединится к славе отца, а когда учеба кончится и нужно будет проявить себя в профессии, сыну предъявить будет нечего.
Что делать, пришлось Рубену Симонову назначить новое прослушивание. В кабинете кроме Симонова сидели Мансурова и Абрикосов. Абитуриент, естественно, волновался. Когда Василия Ливанова отпустили, Рубен Николаевич позвонил Борису Ливанову и сказал, что ошибки нет: сын его талантлив.
Сегодня это подтвердила роль Шерлока Холмса — лучшая по мнению самих англичан.
 ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕНЕССАНС КОЕ-КТО ОПЕРЕДИЛ…
ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕНЕССАНС КОЕ-КТО ОПЕРЕДИЛ…
Григор Нарекаци. Десятый век. Армянский (вообще общеближневосточный) Ренессанс опередил европейский на несколько столетий.
ПОТОМ В XI-XII ВЕКАХ БЫЛИ ВЕЛИКИЕ ПЕРСИДСКИЕ ЛИРИКИ. О Китае и говорить нечего — и в древности, и в ренессансные времена он опередил всех. И не просто опередил, а изумил духовным богатством.
Но Европа узнала обо всем этом только много веков спустя. Вот что значит местоположение в мире. А узнав, была сражена. Так родилось течение ориентализма.
ПРИШЛА ПЕШКОМ В ШАХМАТОВО
Сегодня блоковские праздники в подмосковном селе Шахматово стали уже традиционными. Возникли музеи и в Петербурге, и в Шахматово (оба музея, увы, с горьким опозданием).
9 АВГУСТА 1970 ГОДА МАРИЭТТА ШАГИНЯН ПРИШЛА В ШАХМАТОВО ПЕШКОМ. ЭТО В 82 ГОДА! Тогда музей в усадьбе только еще намечался. Та же Мариэтта Шагинян целую ночь читала главы из Евангелия над телом только что умершего поэта в начале августа 1921 года. Это было не только почитание великого русского лирика: одной из последних благосклонных рецензий Александра Блока о текущей прозе была рецензия именно на книгу Мариэтты Шагинян. Подобное не забывается.
Многие считали тогда трагическую смерть Блока 7 августа 1921 года символическим концом старой России. Не октябрьский переворот 1917 года, а именно 7 августа 1921 года. Лучше всех выразил это в стихах, посвященных Блоку, поэт Георгий Иванов:
И Россия, как белая лира,
Над засыпанной снегом судьбой.
Именно Георгий Иванов после отъезда Марины Цветаевой из Парижа в СССР в 1939 году стал лучшим поэтом русской эмиграции. Прозрачные, щемящие, талантливейшие стихи без всякого изыска, остро врезающиеся в память, принадлежат именно ему.
Эхо резонирующей души
Ни один древний текст не дошел до нас в таком огромном количестве рукописей, как Новый Завет. В этом смысле он далеко оставил позади Ветхий Завет. Причем речь идет об очень древних рукописях, практически почти со времени написания самого Евангелия, то есть с конца I века нашей эры. Никакой другой документ древности не переписывался так часто и не пользовался таким признанием. По сравнению с Новым Заветом "Илиада" Гомера — лишь следующий по количеству списков текст. Вот перечень самых ранних рукописей Евангелия: греческих — 5309, славянских — 4101, армянских — 2587, эфиопских — 2000, сирийских — 350, арабских — 75, готтских — 6, согдийских — 3, персидских — 2. И это еще не считая цитат из великой книги: по числу цитирований с Новым Заветом ничего не может сравниться.
ТО, ЧТО ГРЕЧЕСКИХ РУКОПИСЕЙ БОЛЬШЕ ВСЕХ, — ПОНЯТНО: греческий в первые века нашей эры был языком международного общения. Далее идут славянские рукописи, так ведь речь обо всех славянских народах, коих было много (в основном южнославянских). А вот армяне — это один небольшой народ, и тем, что армянские древние рукописные книги идут в этом списке третьими по количеству, можно гордиться. Кстати, армянские переписчики и переводчики прекрасно знали, конечно, греческий язык и могли сразу писать на греческом, но писали на армянском, то есть переводили для своего народа. Молодцы.
Все самые древние рукописи Евангелия переводились на упомянутые языки уже через век-два-три после появления Нового Завета. Это очень рано, и это о многом говорит. Для сравнения: семь пьес Софокла были переписаны только через 1400 лет после смерти драматурга.
Вот что значит великая цельность книги, святое благоговение перед божественными словами. Кто-то правильно сказал, что все нападки за две тысячи лет производили на живучесть Евангелия не больше эффекта, чем удары сапожного молотка на египетскую пирамиду.
И вот что еще поразительно: в переводах очень мало ошибок и невольных искажений. Что способствовало такому прилежанию переводчиков? То, что затронуто было их сердце. Это не одно только холодное мастерство. Поразительный исторический рассказ вызывал у них сострадание. А всякий переписчик был человеком с живым воображением. Вот это и способствовало глубокому влиянию их рукописей на множество людей. Эхо резонирующей души — долгое эхо…
 О том, что такое раннее и обильное переписывание и перевод благотворны, говорит следующий пример. Александр Македонский сжег Персеполь и Авесту (великие люди иногда причиняют великие беды), отчего Авеста дошла до нас лишь фрагментарно, осколочно. Значит, переписано было ограниченное количество экземпляров, да вдобавок к этому почти все они хранились в одном месте. Правда, те времена были более древние (персы древнее греков), но все равно рвение более поздних переписчиков было сильнее. И дивные арийские гимны Зардушта сгорели почти дотла. И ведь кто жег: тоже ариец! В своем походном драгоценном ларце Александр всюду возил с собой "Илиаду" (сказался учитель Аристотель), а чужую "Илиаду" не пощадил. А вот персы списки "Илиады" не тронули. Персы вообще никогда ничего священного не трогали, терпимо и мудро относясь к миросозерцанию чужих народов. Вот что писал в XVIII веке армянин Артемий Араратский: "Персияне при всех грабительствах своих никогда не касались мест священных и уважали храмы". Вспомним и слова древнеегипетского жреца, сказанные Солону: "Вы, эллины, — дети…". К чести Солона, который сам был эллином, он это записал и тем самым донес до мира.
О том, что такое раннее и обильное переписывание и перевод благотворны, говорит следующий пример. Александр Македонский сжег Персеполь и Авесту (великие люди иногда причиняют великие беды), отчего Авеста дошла до нас лишь фрагментарно, осколочно. Значит, переписано было ограниченное количество экземпляров, да вдобавок к этому почти все они хранились в одном месте. Правда, те времена были более древние (персы древнее греков), но все равно рвение более поздних переписчиков было сильнее. И дивные арийские гимны Зардушта сгорели почти дотла. И ведь кто жег: тоже ариец! В своем походном драгоценном ларце Александр всюду возил с собой "Илиаду" (сказался учитель Аристотель), а чужую "Илиаду" не пощадил. А вот персы списки "Илиады" не тронули. Персы вообще никогда ничего священного не трогали, терпимо и мудро относясь к миросозерцанию чужих народов. Вот что писал в XVIII веке армянин Артемий Араратский: "Персияне при всех грабительствах своих никогда не касались мест священных и уважали храмы". Вспомним и слова древнеегипетского жреца, сказанные Солону: "Вы, эллины, — дети…". К чести Солона, который сам был эллином, он это записал и тем самым донес до мира.
"Слово слушается его, как змея заклинателя"
Пока тут гуляло лето во всей красе и мы были в отпусках, набежало несколько памятных дат — 150-летие со дня рождения и одновременно 100-летие со дня гибели Петра Аркадьевича Столыпина, 110-летие со дня рождения Нины Берберовой, 170-летие со дня гибели Михаила Юрьевича Лермонтова. И ведь что интересно: некоторые из этих памятных дат связаны между собой. Так, Столыпин был троюродным братом Лермонтова (Лермонтов по бабушке Столыпин), а также Петр Аркадьевич приходился дальним родственником Льву Толстому, 100-летие со дня смерти которого исполнилось в прошлом году.
 РОД СТОЛЫПИНЫХ, КОНЕЧНО, НЕСЛЫХАННО ОБОГАТИЛ РОССИЮ. Еще бы — две такие грандиозные вершины в роду за одно столетие. Такому роду надо кричать "браво!" и ставить памятники. И ставят. Теперь вот Петру Аркадьевичу. Давно пора. Великий род, над которым, увы, нависал злой рок, ведь и Лермонтов, и Столыпин были убиты ("Я знал: удар судьбы меня не обойдет"). Но бессмертия рок уничтожить не мог. Прозу Лермонтова Гоголь называл "благоуханной". "В его стихах рассыпаны алмазы" (Глеб Горбовский). "Слово слушается его, как змея заклинателя", — поражалась Анна Ахматова. "Таких стихов еще долго не дождаться России", — писал Виссарион Белинский. Между прочим, до сих пор не дождались.
РОД СТОЛЫПИНЫХ, КОНЕЧНО, НЕСЛЫХАННО ОБОГАТИЛ РОССИЮ. Еще бы — две такие грандиозные вершины в роду за одно столетие. Такому роду надо кричать "браво!" и ставить памятники. И ставят. Теперь вот Петру Аркадьевичу. Давно пора. Великий род, над которым, увы, нависал злой рок, ведь и Лермонтов, и Столыпин были убиты ("Я знал: удар судьбы меня не обойдет"). Но бессмертия рок уничтожить не мог. Прозу Лермонтова Гоголь называл "благоуханной". "В его стихах рассыпаны алмазы" (Глеб Горбовский). "Слово слушается его, как змея заклинателя", — поражалась Анна Ахматова. "Таких стихов еще долго не дождаться России", — писал Виссарион Белинский. Между прочим, до сих пор не дождались.
Но, что самое удивительное, во время юбилея вскрылись и кое-какие новые данные о Лермонтове. Вот, скажем, следующее. Бабушка поэта обратилась к Государю Императору с просьбой разрешить перевезти тело горячо любимого Мишеньки в Тарханы. И в 1842 году получила это разрешение. Снарядили обоз и двинулись в Пятигорск. В обозе находились дядька поэта Андрей Соколов, на попечении которого Лермонтов был с двухлетнего возраста, камердинер поэта Иван Соколов, неотлучно находившийся при нем на протяжении всей его жизни, и конюх Иван Вертюков, находившийся вместе с Лермонтовым в последний приезд в Пятигорск. Через месяц прибыли на пятигорское кладбище.
"Марта 22 дня 1842 года вынули гроб из земли, открыли крышку, взглянули на Михаила Юрьевича: лежит он целехонький, только потемнел как-то. Закрыли крышку, поставили гроб в железный свинцовый ящик, запаяли". В присутствии друзей и знакомых был совершен молебен. Съездили на место дуэли и отправились в обратный путь. "Мишенька здесь?" — спросила бабушка в Тарханах, подойдя к свинцовому запаянному гробу и положив на него руку.
Вот так.
15 июля 1841 году в Пятигорске был убит Лермонтов. 15 июля 1904 года в Баденвейлере (тоже курортный городок) умер Чехов. "Бывают странные сближенья"…