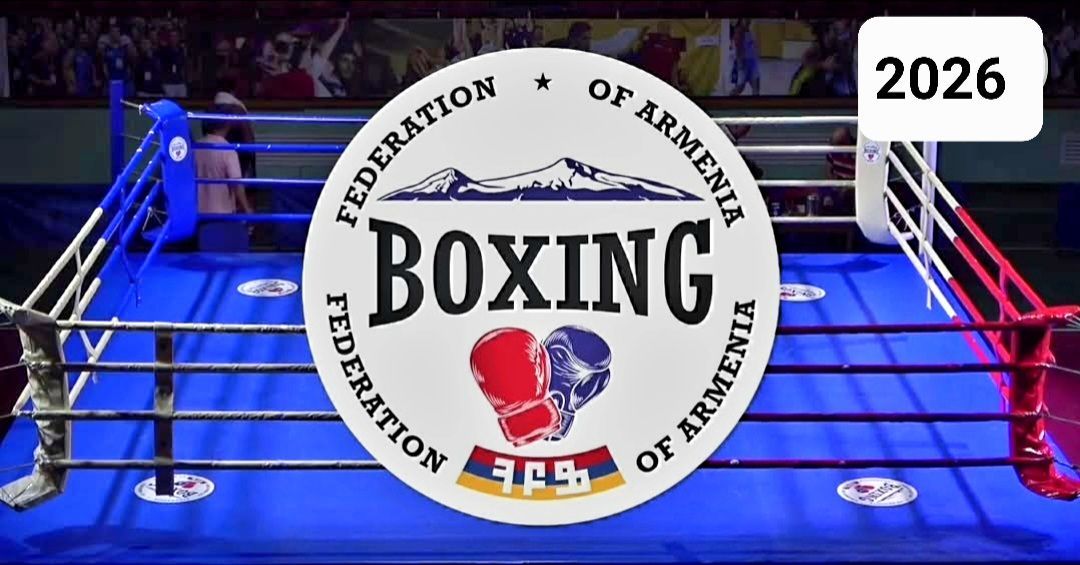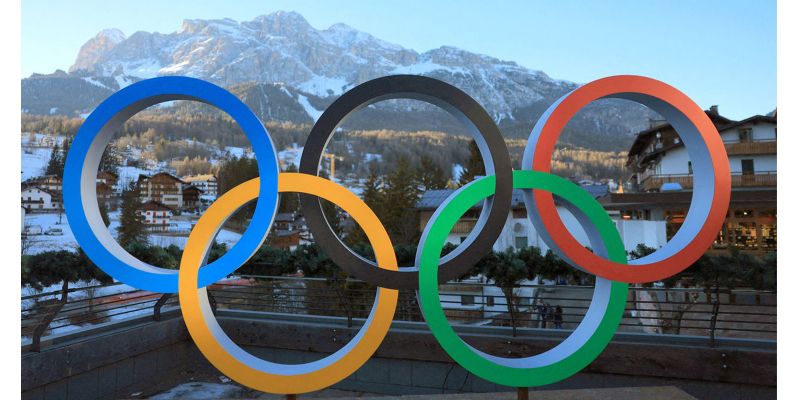1949 год. Хоста. Мне двенадцать лет. После дневного морского купания и обеда в ресторане мы с отцом идем вечером на концерт Александра Вертинского. Понимала ли я тогда, куда именно иду?
Отец, уже несколько лет как разведенный с мамой, летом 1949 года решил взять меня с собой на море, чтобы показать мне мир, расширить мои горизонты, а также оздоровить меня. Его зарплата, ученого, биолога и преподавателя вуза (специальность — физиология растений), вполне это позволяла.
Бедная мама, которая столько сделала для меня: ей я обязана всем, в том числе и творчеством, ибо все жизненные тяготы она взяла на себя, чтобы я, как она говорила, витала в облаках. Я и витала, мало вдумываясь в то, откуда берется кормежка и все прочие блага. Да, бедная мама, тянувшая непосильный воз, тогда как праздники с отцом врезались в память сильнее.
ИТАК, МЫ ИДЕМ НА КОНЦЕРТ ВЕРТИНСКОГО. На сцене спартанская простота — только рояль, аккомпаниатор и певец. Мне, почти еще ребенку, конечно, хочется чего-нибудь попестрее. Певец, на взгляд моих тогдашних лет, не просто странный, а абсолютно непривычный и, главное, очень старый. Ну двенадцатилетним даже люди сорока лет кажутся стариками, а тут 70 лет. Ветхость певца бросается в глаза прежде всего остального. После оптимистичных, задорных, громкоголосых советских певцов в цветущем возрасте здесь что-то почти ветхозаветное, да к тому же еще и грассирующее, изысканно жестикулирующее и бросающее в зал, где сидят все-таки не аристократы, слова из дореволюционного словаря. Вот это да!
Однако необычное, как всегда, привораживает. Зал, где сидят в основном совслужащие с небольшими вкраплениями интеллигентов, так называемых недобитых (как хорошо, что не всех добили!), не отрываясь смотрит на сцену, где стоит Пьеро, правда, во фраке, а не в обычной блузе с хризантемой. Вы представляете себе атмосферу в стране, где только что отгремела война? А тут изящество жестов и какие-то экзотические бананово-лимонные сингапуры с лиловыми неграми и маленькими балеринами. Словом, эмигрантщина во всей полноте.
Но незаметно в зале что-то менялось. Этого нельзя было не почувствовать. В глазах людей стояли слезы.
Принесла случайная молва
Милые далекие слова —
Летний сад, Фонтанка и Нева.
Вы, слова залетные, куда?
Здесь шумят чужие города,
И чужая плещется вода.
Здесь живут чужие господа
И чужие память и беда.
Мы для них чужие навсегда.
Так могут петь только те, кто любит свою родину смертно, слезно, навеки, через голову любых революций.
"И российскую милую землю узнаю я на том берегу". Эту песню Вертинский написал в Румынии в 30-е годы у пограничных постов, где за рекой простиралась Россия. На сцене стоял теперь уже не певец, не артист, а поэт. Поняв, о чем поет этот исстрадавшийся человек, возвратившийся на родную землю, хотя и не вписавшийся в ее новую жизнь, зал плакал. Теплели лица, я бы даже сказала, хорошели люди, совслужащие влюбленно смотрели на сцену, а пожилой контингент зрителей, исстрадавшийся не менее певца, громом аплодисментов оглашал зал.
Я ПРИСМОТРЕЛАСЬ К ЖЕСТАМ АРТИСТА. Они уже не казались мне изломанными, скорее — трагическими, руки были большими, длинными, ослепительно белыми. Не напудрено белыми, а естественно, природно белыми. Западнославянское лицо (обрусевший поляк?). Тематика песен ближе к концу концерта была уже не столько экзотической, сколько вечной. Вечно щемящей.
Бежит, летит, спешит, пылит дорога,
Еще манит, еще пьянит весна,
А жить уже осталось так немного,
И на висках белеет седина.
Бегут, летят, спешат, гудят заботы,
Еще манят, еще пьянят года,
Но так настойчиво и нежно кто-то
От жизни нас уводит навсегда.
Ветхость поющего уже казалась не старческой, а прекрасным крайним возрастом много повидавшего и много перечувствовавшего человека, мудрость и талант которого были сама красота. Теперь уже после каждой новой песни зал не просто громово аплодировал — зал вставал и долго не отпускал певца к новой песне, как бы затягивая этот неповторимый концерт, воздавая и возвращая самой личности Александра Николаевича Вертинского все то, о чем он долгие годы мечтал на чужбине. Особую пронзительность происходящему придавало то обстоятельство, что певцу (все это чувствовали) жить оставалось уже недолго. Люди хотели слушать эти великие песни снова и снова, насытиться ими. Но по радио его песни не звучали, телевидения тогда еще не было (впрочем, туда бы его и не пустили), пластинки с его песнями не выходили. Одно сплошное табу. Единственное, что разрешила власть, — концерты (в основном в небольших и неотапливаемых залах). Совсем запретить и замолчать такое явление, как Вертинский, она все-таки не могла. Спасибо и на этом. Но от особого триумфа этих концертов власть все-таки испытывала неуют.
Когда мы с отцом вышли из концертного зала, море все так же шумело у берегов Хосты. "Прибой лениво ткет по дну узоры пенных кружев". Сингапур, Шанхай, Париж — ах, не все равно ли! Выступления в чужих городах, да еще и в ресторанах, где публика гремит вилками и ложками… И старый человек возвращается к истоку, пусть этот исток и стал неузнаваемым. А мы сегодня — разве мы, то есть старшее поколение, узнаем свою прежнюю жизнь, прежний ее додемократический, доинтернетный лик? Он так же отчужден от нас, как некогда дореволюционная русская действительность была поглощена советской эпохой.
Взяв меня тогда в Хосту, отец хотел расширить мой кругозор за счет новых впечатлений. Он в этом преуспел больше, чем сам это осознавал. Я услышала в очень живом, устном, прелестном музыкальном звучании великий русский язык, необыкновенную его глубину, целый пласт недоступной для меня "старорежимной" лексики, аромат которой без Вертинского скрыла бы от меня лингвистически более убогая эпоха.