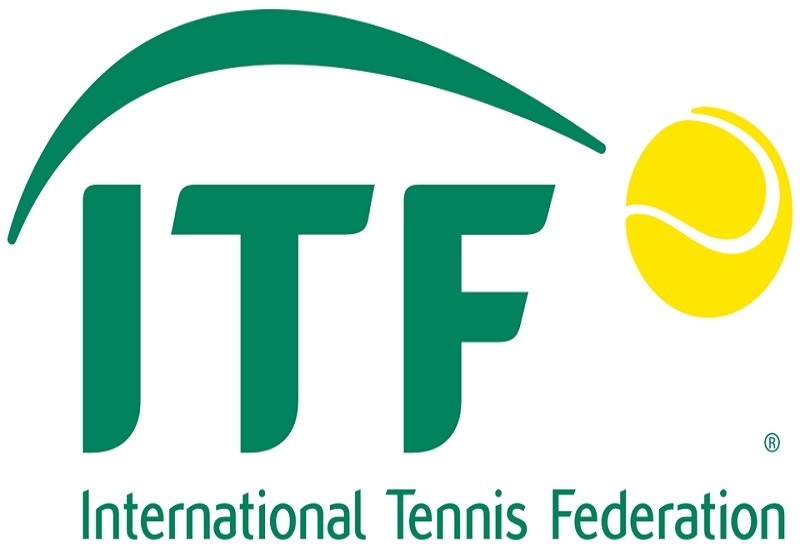12 июня сего года мне исполнилось 75 лет. Все они — до последней клеточки моего существа — посвящены Армянскому нагорью, высокому не только в геологическом смысле.
Размышляя над реалиями Армянского нагорья, я, конечно, задумывалась и над тем, откуда во мне эта стойкая, неподдельная любовь к Родине. Что-то более слезное, чем только собственно мировоззренческий интерес к Армении, нахожу я в себе. Что? И из глубин подсознания приходит ответ: деды были скитальцы… Там, на тех дорогах, утерян был язык, но не дух. Род, у которого силен дух, не растворится в диаспоре. Душа такого рода не потеряется на дорогах мира.
Родина — это не территория. Территорией земля является лишь для кочевника — выпас кочующих стад, за которыми идет кочевник: опустошит одно место, идет дальше, не оглядываясь на опустошенное. Для оседлого же земля Родины — это память о пахоте, это собственный пот, пролитый именно в эту землю, это прах предков, лежащий здесь рядом с поселениями живых, это привычные панорамы, скажем, именно эта конфигурация горных хребтов и долин — и никакая другая, это память о страшных временах этой земли и о горьких исходах, это многажды обрушивающийся и многажды возводившийся и обустраивавшийся дом, это мать у очага, это дети, уходившие отсюда в большой мир и возвращавшиеся домой уже седыми…
Родина — это память о колыбели. Колыбель, как и Родина, — это свет, к которому мы обращаем взоры, где бы мы ни находились. Подсознание — самая глубинная память нашего существа. Рудиментарная, неосознаваемая, запрятанная в самую древнюю часть мозга. Она не поддается никакому лекарственному воздействию. Это ствол, средоточие самой человеческой личности. Это то, перед чем бессильны все миграционные теории, все ассимиляционные внедрения. В доминанту, в установку, в вектор личности не внедришься. Попыток было много, все пустые.
Развелось множество говорунов, которые с глумливой усмешкой хотят уверить нас, что любовь к Родине банальна. Зряшные старания. Патриотизм, как все высокое и не заемное, всегда продуктивен. Только оплодотворенность высокой идеей, гордый дух гражданства поднимают сердца. Бывают времена, когда только всепобеждающий мажор, а не депрессивный минор способен напитать душу и вознести главу. Не индивидуализм сынов спасает Отечество, а одержимость, страсть к служению, склонность подчинить себя общей пользе. Спасает героическое, а не утонченное. Но в эпохи долговременного мира и тихое уныние простительно, и даже разъедающий непоэтичный скепсис. В такие эпохи сознание народа меньше зависит от трагических колебаний, так что особый пригляд за этическими нормами не требуется. Тогда гражданское запустение перенести как-то легче. Но не во дни бед народных. Впрочем, дух любого народа становится особенно собранным именно в тяжкие времена. Тревога призывает резервы народа. И они подтягиваются. Иммунную систему этнического бессознательного мобилизует только гигантская волна народного неблагополучия, только цунами Большой беды.
Есть сокровенное чувство правды жизни. Оно — камертон для всех эпох, показатель состояния общественного сознания. Убогое общественное поле не имеет духовных ресурсов. Что до меня, то я люблю Армению не слепо-восторженно и не слюняво-местечково, а со всей зрячей проникновенностью, со всем пониманием ослепительных, но и горьких ее сторон. Я — автор не панегирический. Армения — не просто горная страна, а очень живая страна, заряжающая страна, рождающая идеи страна, где очень слышен Бог. Страна говорящих пространств. Неистоптанная страна. Я чувствую ее даже фактурно, словно ощупала всю ее поверхность своей рукой. Есть в ней никогда не покидающая ее орлинность. Из нее можно уехать, но покинуть ее нельзя. Именно это держит Спюрк, а не только память о Геноциде 1915 года. Но так любя Армению, я никогда не переходила черту, никогда не утверждала, что наш народ и наша страна — самые-самые… Я просто объективно от всего сердца воздаю реальности, которая поражает меня. Родина моя! Во мне скопилась усталость от прежних миграций рода. Рассеянье звучит для меня как отсечение. Навечный отрыв от родного. И когда я смотрю, как легко порой люди покидают родные пределы, причем не всегда от самых грозных причин (как было, скажем, в 1915 году), я прозреваю: они еще не скопили достаточно усталости. Это делает мое укоренение на Родине особенно прочным. Но моя ветвь не дала побега. Я не подарила роду продолжения и вместе со мной, увы, погибнет и что-то заветное, несомненно присущее моим пращурам. Детей мне Бог не дал, но моя жизнь ветвилась книгами.
.jpg) Одна из волн миграций увела моего предка подальше от ятагана. Предок спасся. Спаслись и его потомки, которые родили меня. Но спаслась ли я? Я потеряла самую свою суть — родной язык… Видимо, очень не бедным был бы мой армянский язык! И каким одушевлением и полной слиянности ответила бы моя душа на родные звуки! Но судьба, ятаганы, буреломы исходов разлучили меня с ненаглядным. Мою душу разорили этим отлучением… И тогда — о чудо! — Бог вступился за певца. Он, не ставя меня в известность и не сообразуясь с моей тогда еще не созревшей волей, возвратил меня домой и диктовал мне поверх всех языков — трубным голосом оленя, воем зверя, орлиным клекотом. То есть погрузил меня в музыкальные глубины, откуда вышли все языки. Для Бога ведь нет преград: захочет — смешает все языки, как в Вавилоне. Что ему наши земные языковые барьеры!
Одна из волн миграций увела моего предка подальше от ятагана. Предок спасся. Спаслись и его потомки, которые родили меня. Но спаслась ли я? Я потеряла самую свою суть — родной язык… Видимо, очень не бедным был бы мой армянский язык! И каким одушевлением и полной слиянности ответила бы моя душа на родные звуки! Но судьба, ятаганы, буреломы исходов разлучили меня с ненаглядным. Мою душу разорили этим отлучением… И тогда — о чудо! — Бог вступился за певца. Он, не ставя меня в известность и не сообразуясь с моей тогда еще не созревшей волей, возвратил меня домой и диктовал мне поверх всех языков — трубным голосом оленя, воем зверя, орлиным клекотом. То есть погрузил меня в музыкальные глубины, откуда вышли все языки. Для Бога ведь нет преград: захочет — смешает все языки, как в Вавилоне. Что ему наши земные языковые барьеры!
Бог не дал певцу быть безгласным и в который раз доказал, что все то, что должно быть воспето, воспето и будет, пусть и незнакомым голосом. И каково же было мое изумление, когда поверх всех чужих языковых оперений я вдруг узнала родную кантилену, услышала родной звук в чужой речи. Всплыл великий евангельский символ Преображения, когда сквозь незнакомый лик проступают родные черты. Сквозь случайное проступило вечное. И не просто библейское, но яфетическое. Не возникло, а именно проступило, ибо в подпочвенном состоянии было всегда. Это можно сравнить и с палимпсестом, когда из-за дороговизны пергамента иногда писали поверх уже написанного текста.
Конечно, можно было бы спросить (и я не раз задавала себе этот вопрос), почему национальное должна была воспеть я, родившаяся не на родной земле? Впрочем, ситуация не новая: патриоты часто рождаются в семьях эмигрантов. В семьях, в которых силен национальный дух. "Тоска сгустилась до деянья".
С рисунком родного нагорья в духовном зрении я и уйду из жизни. Белые горы, белые горы, лика Господнего чистота! Синие дали, синие разливы долин и плоскогорий! Очень давняя история заселения этих долин. Капище, ставшее тониром, шкура кавказского барса в пещере, ставшая впоследствии ковром, земля Отечества, ставшая гончарной утварью (более вязкая, чем месопотамская, глина), первое брошенное в землю зерно, отозвавшееся через тысячелетия казаном арисы, мягкий, податливый и красивый цветной камень (туф), который уже в доисторические времена резали даже ножом, в том числе и ножом обсидиановым (все ведь рядом), цвет плодов абрикоса, перешедший впоследствии на национальный флаг, ствол абрикосового дерева, ставший тельцем дудука, и дитя божественной лозы — вино, которым проверяют способность мужчины быть умеренным (вести дом можно доверить только тому, кто способен управлять собой).
Да, рисунок родного нагорья, над которым извечный огнепоклонный "ар" (этот главнейший из индоевропейских корней, означающий "огонь", "жар"). А что значит солнечное сияние для Армении? Это значит, что почти каждый день в году здесь приветлив, что солнце дарит свою силу каменному ложу сухой земли, прогретому снизу еще и вулканами, отчего плоды становятся особенно вкусными. Талантливость армян от этой же двойной энергетики. Ну и, конечно, от исторических испытаний, коим конца никогда не было и нет. Закалка духа — ведь талантливость можно прочитать и так. Без ремесла в руке не выходи из дома, армянин. И он не выходил. Умения спасали его. В том числе и на чужих землях. Там — особенно.