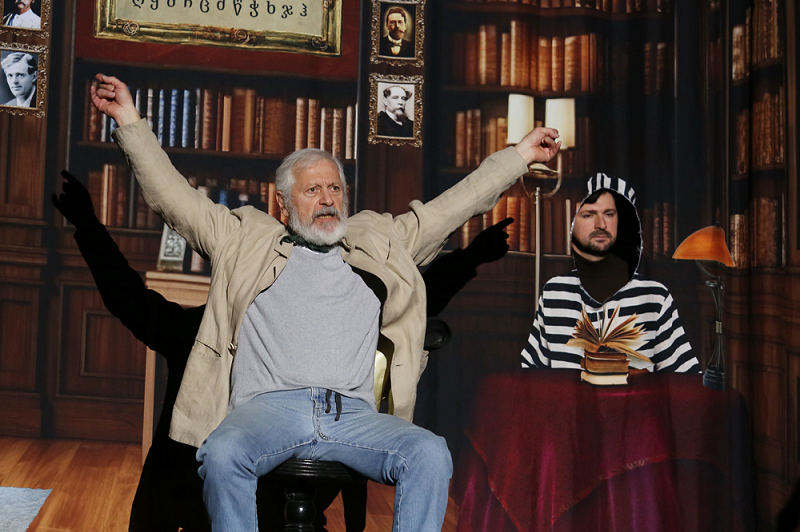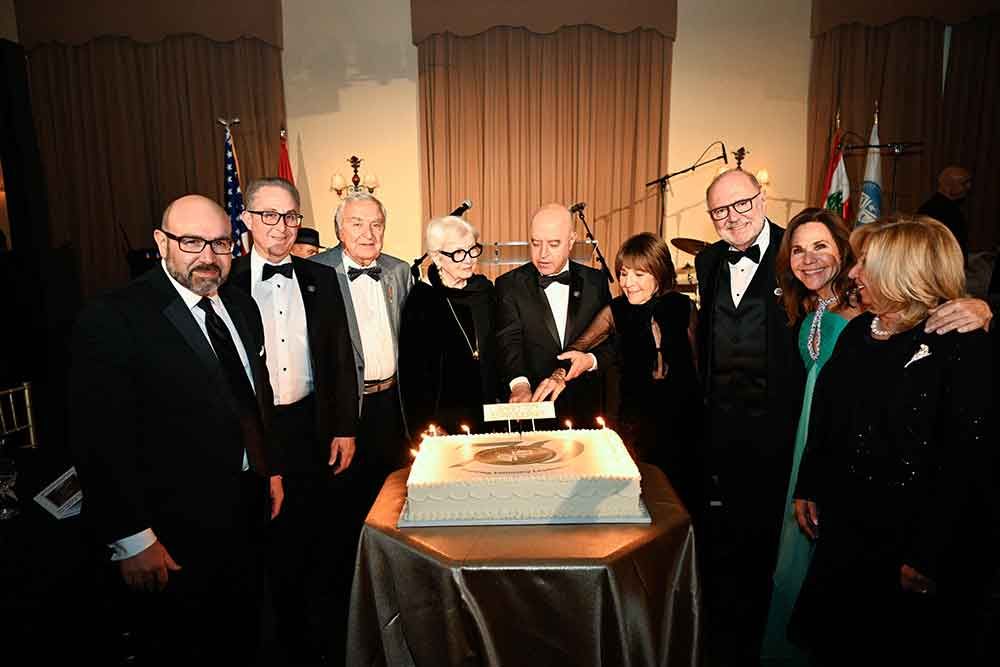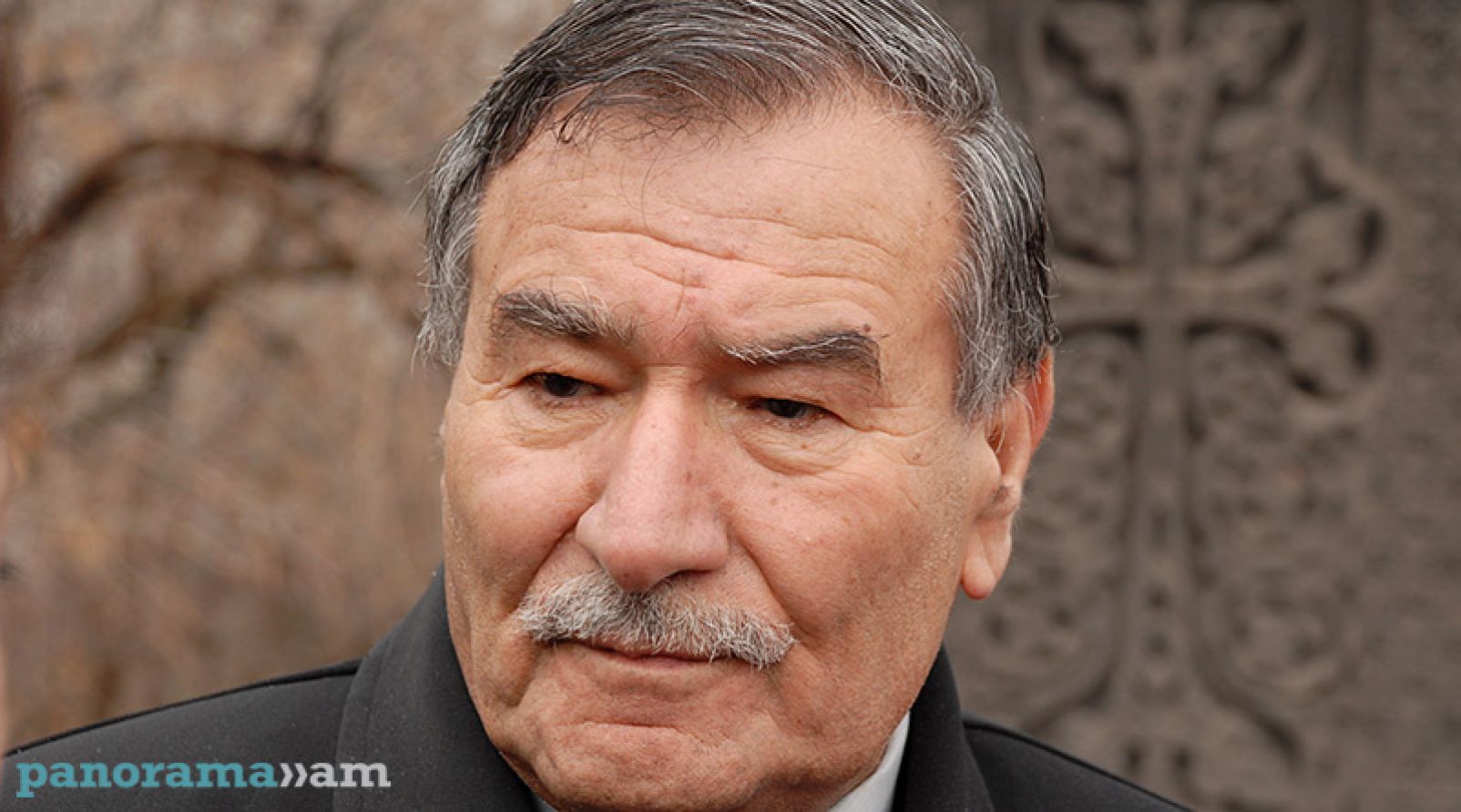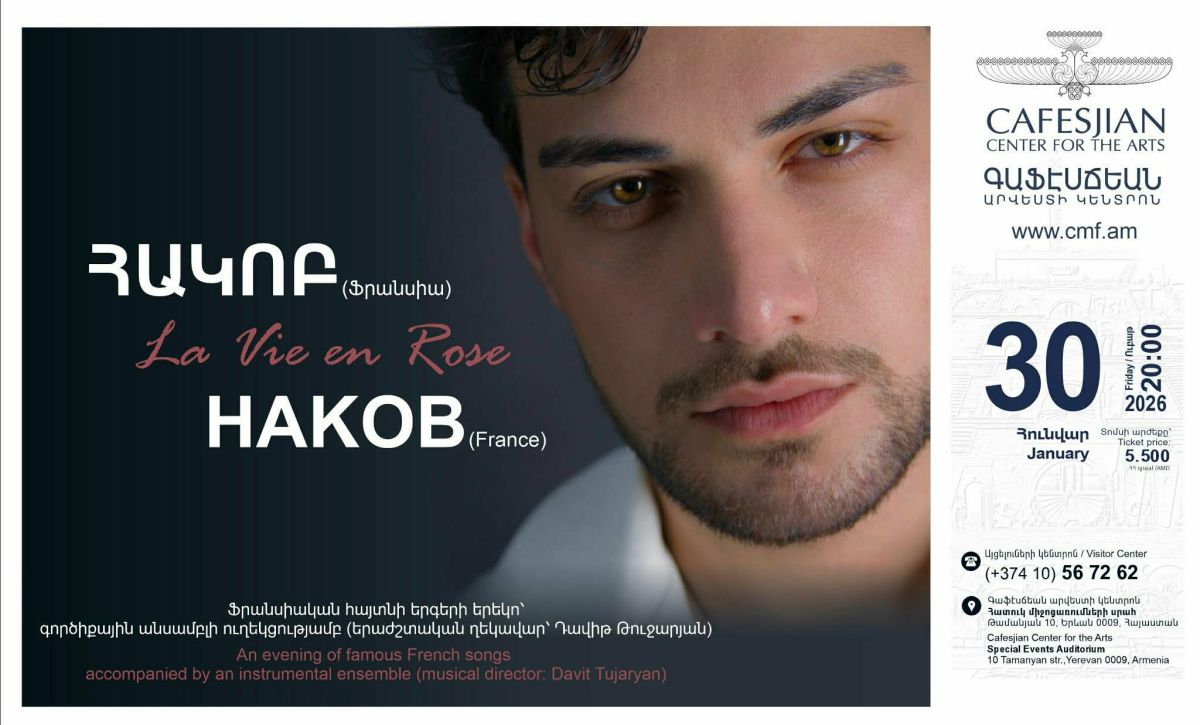Время от времени в ереванском кинотеатре «Москва» проходят кинофестивали, собирающие особую публику. Задыхаясь от пошлости отечественных телепередач и не находя в окружающем узком, таком предсказуемом мире пищу для души и интеллекта, люди с благодарностью ходят, к примеру, на британское или японское кино. Это именно тот случай, когда ходят не на режиссера или звезду, а на другой тип мышления, определяющий другой образ жизни. Если с помощью кино можно что-то сказать, то японское кино не только говорит, но и дает.
Конец на горе Нараяма
Что мы знаем о японском кино? Из имен в первую очередь на ум приходит Акира Куросава. Однако в памяти ереванцев навечно запечатлелся фестиваль киношедевров, прошедший в конце 80-х, когда наряду с оскароносным бергмановским фильмом «Фанни и Александр» зрители увидели японский фильм Сехэя Имамуры «Легенда о Нараяме», увенчанный «Золотой пальмовой ветвью» Каннского фестиваля 1983 года.
ТАКОЙ ФИЛЬМ, КАК «ЛЕГЕНДА О НАРАЯМЕ», НЕВОЗМОЖЕН БЫЛ ПРИ ТОМ СТРОЕ, в котором мы жили, — он был вне цензуры, а цензура, как метко выразился кто-то по каналу «Культура», — это операция на мозге. Так что после этого фильма можно было дышать полной грудью. В ком-то фильм вызвал омерзение, но были и те, кто после просмотра вновь покупал билет, выстояв в напряженной очереди, чтобы на сей раз посмотреть фильм без шока и уже наперед зная, что он увидит на экране.
А на экране, господа, зритель видел небольшую заснеженную горную деревушку XIX века, где люди жили, на наш взгляд, по жестоким законам, ибо здесь начисто отсутствовали такие понятия, как жалость, милосердие, стыд и т.д. Человек рассматривался в контексте животного мира, и человеческие чувства были не к месту. Выжить можно было только при наличии средств пропитания, в основном риса, и часто на рисовом поле можно было найти выброшенного новорожденного мальчика (девочка была в цене — ее можно было обменять на соль). Если какая-нибудь семья не в состоянии была прокормить себя и прибегала к воровству, то, по законам деревни, семью эту хоронили заживо. Не колеблясь, лихо вытаптывали землю, под которой были погребены их соседи. И эта была не жестокость. Эта была необходимость.
Жестока была сама жизнь, и один человек для другого был всего лишь лишним ртом, грозящим его собственному существованию. Срок жизни был ограничен 70 годами. Если кого-то угораздило не уложиться в этот срок, то сын привязывал родителя к спине и поднимался на гору Нараяма, где оставлял его среди множества скелетов под тревожное ликование ворон… Что-то, однако, величественное было в фильме, который звучал не как обвинение, а как факт смирения перед тяготами существования.
Сегодня, как известно, японцы — нация долгожителей: средняя продолжительность жизни у мужчин составляет 78 лет, а у женщин — 85, и причина долгожительства, на мой взгляд, не только в предпочтении морепродуктов, но и в том, что старость в Японии удостаивается особого почтения и уважения, о стариках не отзываются с умилением «татикнер ев папикнер», словно это игрушки. Есть даже праздник — День почитания старших, который входит в систему так называемых счастливых понедельников наряду с тремя другими праздниками — День совершеннолетия, День моря и День физкультуры.
Любоваться сакурой
Явления природы тоже вызывают праздничное настроение, как, например, цветение сакуры, на которое специально идут полюбоваться. Японские фильмы подобны сакуре — их не просто смотришь, а созерцаешь и даже любуешься. Уж так они создаются, что даже трагедия звучит не трагически, т.е. вместо сопереживания опять-таки присутствует момент созерцания, до зрителя доходит факт трагедии, но не её ужас.
В ЭТОМ ГОДУ, НАПРИМЕР, НА ФЕСТИВАЛЕ БЫЛ ПОКАЗАН ФИЛЬМ КАДЗУО КУРОКИ «Когда живешь с отцом…», посвященный взрыву атомной бомбы над Хиросимой 6 августа 1945 года. И что же? Вместо людей, тела которых в мгновение превратились в уголь, мы наблюдаем за диалогом очень милых отца и дочери, любуемся пластикой их движений, наслаждаемся певучестью их речи, японской интонацией, где вопрос звучит как утверждение, а отрицание — как вопрос…
 И вот таким непритязательным способом до зрителя доводится информация о страшном опыте человечества, а именно — испытании ядерного оружия на живых людях: «Бомба была сброшена на высоте 580 м, температура пламени достигала 12000 градусов, вдвое жарче Солнца. Все на земле — люди, здания — расплавилось при вспышке, а затем ударная волна понеслась быстрее скорости звука. Это было так бесчеловечно — что люди сделали с людьми — зажгли 2 солнца в небе». Никакого обвинения или злости по поводу трагедии. Единственное право, которое выжившие хиросимцы унаследовали после вспышки бомбы, — это право на страх. Страх вообще за человека.
И вот таким непритязательным способом до зрителя доводится информация о страшном опыте человечества, а именно — испытании ядерного оружия на живых людях: «Бомба была сброшена на высоте 580 м, температура пламени достигала 12000 градусов, вдвое жарче Солнца. Все на земле — люди, здания — расплавилось при вспышке, а затем ударная волна понеслась быстрее скорости звука. Это было так бесчеловечно — что люди сделали с людьми — зажгли 2 солнца в небе». Никакого обвинения или злости по поводу трагедии. Единственное право, которое выжившие хиросимцы унаследовали после вспышки бомбы, — это право на страх. Страх вообще за человека.
Незлобивость — вот что противопоставили японцы силе атомной бомбы! И, может быть, это чувство оказалось сильнее ужасов войны. «Это было бы слишком — вклинивать атомную бомбу в историю Хиросимы, — заключает отец и добавляет: — В любую историю. Держи это в уме». Девушка чувствовала вину перед отцом, сгоревшим заживо в тот день, и то, что зритель видел на экране живого отца, то было всего лишь плодом ее воображения. Но это именно тот случай, когда мертвые могут говорить с живыми. Вообще японские фильмы, показанные в ноябре этого года, можно было бы охарактеризовать как кино о философии жизни, точнее, философии мирной жизни. Той же незлобивостью и миром был пронизан фильм Такаси Ямадзаки «Всегда: закаты на третьей улице», а фильм Банмея Такахаси «Дзэн» давал ключ к просветлению: «Познать себя — значит забыть себя».
Секрет же успешного преодоления трудностей, выпадающих на долю Японии, и достижения высочайшего уровня жизни, на мой взгляд, заключен в дисциплине и умении японцев довольствоваться малым. В любви, например, это умение выглядит так: «Если я буду мечтать о том, чтобы заполучить любимого мужчину, то буду наказана, мне достаточно всего лишь находиться рядом с ним, не ожидая ничего от судьбы…» Это фраза из прошлогоднего японского кинофестиваля, тему которого можно было бы сформулировать как философия прощения.