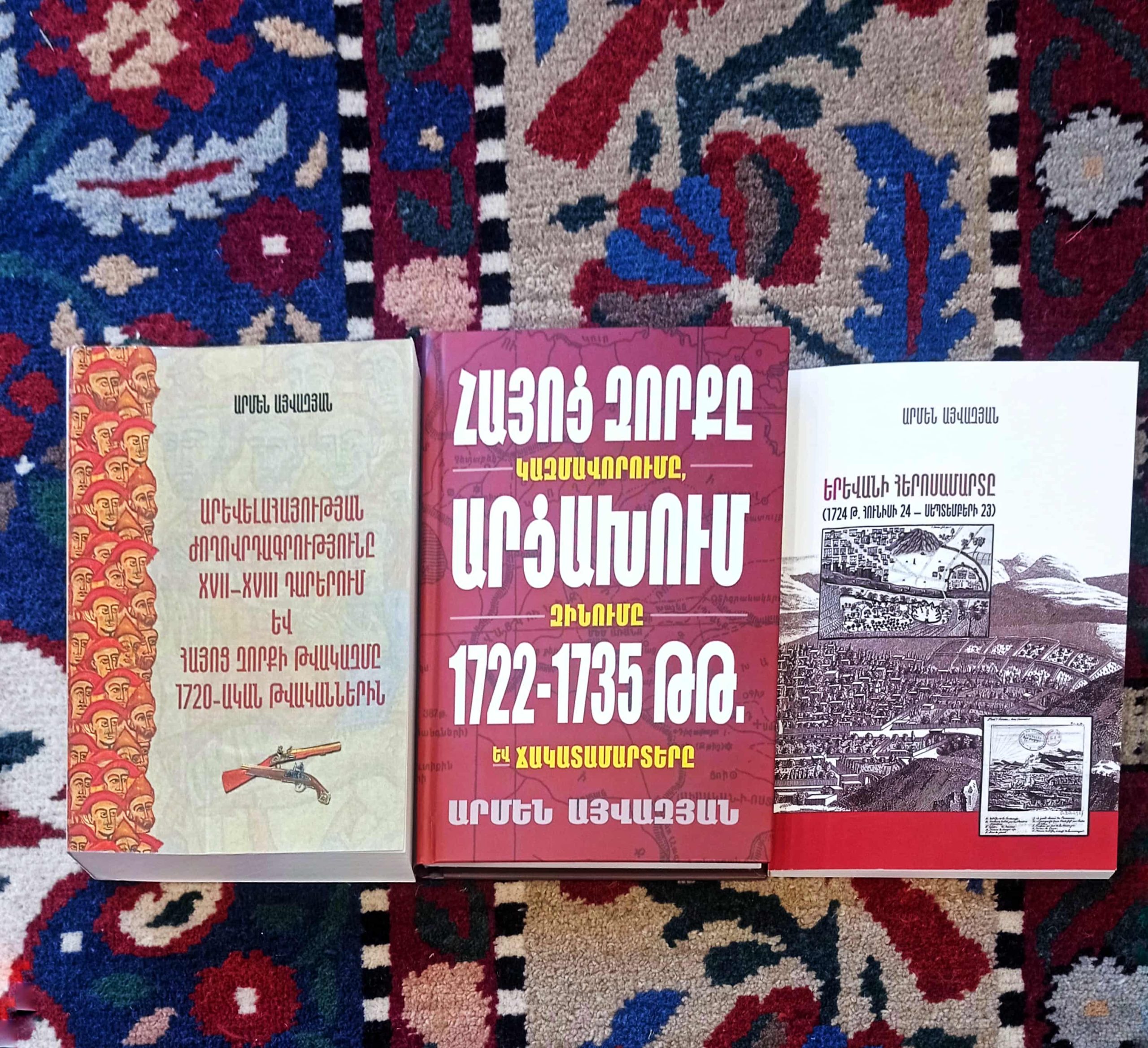Более чем 50-летнее творчество Владимира Саакяна, мастера, ушедшего из жизни в самом начале 2013 года, заставило нас оглянуться на пройденный им путь в искусстве, первая половина которого прошла в советские годы, а вторая — в иных условиях, в нынешнее, неблагоприятное для искусства время. Удивительное дело: быстрые перемены, произошедшие в нашей жизни, развалившие братство художников, разрушившие судьбы многих творческих людей, разбросавшие их по разным странам, совсем не отразились на искусстве некоторых из них. В основном тех, кто, как бы не замечая бытовых перемен, воспринял новую реальность как очередное испытание на жизненную прочность и художественную цельность и честность.
Владимир Саакян был из их числа. Его жизнь — пример подлинной живописной свободы. Никогда не стремясь называть себя новатором, он умел по-новому использовать традиционные формы и приемы, вкладывая в них новое мироощущение времени, которое всегда было для художника напряженно эмоциональным, а если точнее — микроромантическим. А главной и единственной темой его искусства был человек, в котором он искал главную опору. В трагической дисгармонии мира его герои и героини возвышаются своей особой человеческой духовностью, качеством с помощью которого художник пытался в своем, пусть воображаемом, миражном мире воскресить утраченную и в жизни, и в искусстве многообещающую надежду. Именно пытался, так как его персонажи только мечтали об этом вместе со своим автором.
 Да, работы Владимира Саакяна уводят от обыденности. В них царит густая, пластическая концентрация духа. На протяжении всей жизни художник неуклонно приближался к цельной световоздушной среде, невидимой, но прекрасной, заполняя свои холсты красками, мерцающими в потаенных глубинах его полотен. Мазки словно сплавляются в сверкающие комки и сгустки, прорываясь сквозь темные фоны. Формы мазков передают волнение художника, кисть его порой легка и летуча, порой медлительна, тяжела и остра — словом, нервна, динамична и уже сама несет заряд новой, чуткой эмоциональности. В его композиционных полотнах среда воспринимается как чувственное пространство. Так, в полотнах, где герои и героини показаны в церковных интерьерах, все пространство пронизано эмоциональными и смысловыми токами. Это не случайный выбор. В.Саакян любил разрабатывать мотив церковного или околоцерковного пространства, где его притягивала не только красота архитектурных форм, но, их насыщенная особой жизненностью историческая духовность. Такие композиции заполнены золотым, каким-то по-рембрандтовски таинственным свечением. Очертания плоскостей и объемов не обозначены линиями, однако мы всегда ощущаем строгость и стройность композиционного построения, а в пластике недооформленных фигур всегда запечатлена плавность движений, полных благородного величия. От этих картин художника исходит дух средневекового романтизма, колоритного, первозданного и народного. Глаз, ожидающий сумеречного полумрака, вдруг оказывается поражен торжеством света.
Да, работы Владимира Саакяна уводят от обыденности. В них царит густая, пластическая концентрация духа. На протяжении всей жизни художник неуклонно приближался к цельной световоздушной среде, невидимой, но прекрасной, заполняя свои холсты красками, мерцающими в потаенных глубинах его полотен. Мазки словно сплавляются в сверкающие комки и сгустки, прорываясь сквозь темные фоны. Формы мазков передают волнение художника, кисть его порой легка и летуча, порой медлительна, тяжела и остра — словом, нервна, динамична и уже сама несет заряд новой, чуткой эмоциональности. В его композиционных полотнах среда воспринимается как чувственное пространство. Так, в полотнах, где герои и героини показаны в церковных интерьерах, все пространство пронизано эмоциональными и смысловыми токами. Это не случайный выбор. В.Саакян любил разрабатывать мотив церковного или околоцерковного пространства, где его притягивала не только красота архитектурных форм, но, их насыщенная особой жизненностью историческая духовность. Такие композиции заполнены золотым, каким-то по-рембрандтовски таинственным свечением. Очертания плоскостей и объемов не обозначены линиями, однако мы всегда ощущаем строгость и стройность композиционного построения, а в пластике недооформленных фигур всегда запечатлена плавность движений, полных благородного величия. От этих картин художника исходит дух средневекового романтизма, колоритного, первозданного и народного. Глаз, ожидающий сумеречного полумрака, вдруг оказывается поражен торжеством света.
Без преувеличения можно утверждать, что концептуальным замыслом всех его работ является живопись, где свет стремится одержать победу над тенью. Этому посвящены и те многочисленные произведения В. Саакяна, где соучастниками этого процесса становятся образы. От движения тел в картинах, от их жестов преобразуется окружающий их воздух. В этих образах есть нечто призрачное и неуловимо легкое. Художник не награждает их обязательно одухотворенными лицами, но, разглядывая их, мы обнаруживаем одухотворенность в ином — в неожиданных сложных поворотах головы, в движении плеч и рук. Великолепное многообразие этих женских образов находится в прямой зависимости от света и освещенности. В.Саакян характеризует каждую фигуру, расставляя продуманные световые акценты так, что в итоге слияния всех приемов образы восходят к классическим основам. Они все прекрасны и в своей наготе, и в своих воздушно написанных платьях. Художник как истинный живописец являет их в таких сочетаниях и оттенках цветов, что они выглядят хрупкими и одинокими, но в этой хрупкости — отчаянное бесстрашие, а не покорность перед лицом неизбежных драматических жизненных ситуаций, перемежаемых ситуациями счастья и покоя.
Свою жизнь и творчество Владимир Саакян никогда не выставлял напоказ, она была скрыта от широкого круга художественной общественности. А главное в нем — его сокровенные мысли откроются (как это нередко происходит у нас) со всей остротой только на посмертной выставке мастера. Какие ресурсы наших душ они приведут в движение, какие неизведанные романтические драмы пробудят в нашем воображении!
В этом смысле гораздо счастливее оказались его бесчисленные ученики, студенты Ереванской академии художеств, где Владимир Саакян, сам окончивший это заведение в 1965 году (тогда Художественно-театральный институт), долго преподавал без нажима и менторства. Но как опытный воспитатель, он внушал своим подопечным, что жизнь далека от тепличных условий, но творчеством, высоким, честным и чистым, можно этой жизни противостоять, создавая на полотнах овеянные поэзией и романтикой миры.
Он творил реальность, где правила его поэтическая душа, и жизнь для Владимира Саакяна была сверкающим миражом, выстроенным из красок и человеческих чувств.
Владимир Саакян был из их числа. Его жизнь — пример подлинной живописной свободы. Никогда не стремясь называть себя новатором, он умел по-новому использовать традиционные формы и приемы, вкладывая в них новое мироощущение времени, которое всегда было для художника напряженно эмоциональным, а если точнее — микроромантическим. А главной и единственной темой его искусства был человек, в котором он искал главную опору. В трагической дисгармонии мира его герои и героини возвышаются своей особой человеческой духовностью, качеством с помощью которого художник пытался в своем, пусть воображаемом, миражном мире воскресить утраченную и в жизни, и в искусстве многообещающую надежду. Именно пытался, так как его персонажи только мечтали об этом вместе со своим автором.
 Да, работы Владимира Саакяна уводят от обыденности. В них царит густая, пластическая концентрация духа. На протяжении всей жизни художник неуклонно приближался к цельной световоздушной среде, невидимой, но прекрасной, заполняя свои холсты красками, мерцающими в потаенных глубинах его полотен. Мазки словно сплавляются в сверкающие комки и сгустки, прорываясь сквозь темные фоны. Формы мазков передают волнение художника, кисть его порой легка и летуча, порой медлительна, тяжела и остра — словом, нервна, динамична и уже сама несет заряд новой, чуткой эмоциональности. В его композиционных полотнах среда воспринимается как чувственное пространство. Так, в полотнах, где герои и героини показаны в церковных интерьерах, все пространство пронизано эмоциональными и смысловыми токами. Это не случайный выбор. В.Саакян любил разрабатывать мотив церковного или околоцерковного пространства, где его притягивала не только красота архитектурных форм, но, их насыщенная особой жизненностью историческая духовность. Такие композиции заполнены золотым, каким-то по-рембрандтовски таинственным свечением. Очертания плоскостей и объемов не обозначены линиями, однако мы всегда ощущаем строгость и стройность композиционного построения, а в пластике недооформленных фигур всегда запечатлена плавность движений, полных благородного величия. От этих картин художника исходит дух средневекового романтизма, колоритного, первозданного и народного. Глаз, ожидающий сумеречного полумрака, вдруг оказывается поражен торжеством света.
Да, работы Владимира Саакяна уводят от обыденности. В них царит густая, пластическая концентрация духа. На протяжении всей жизни художник неуклонно приближался к цельной световоздушной среде, невидимой, но прекрасной, заполняя свои холсты красками, мерцающими в потаенных глубинах его полотен. Мазки словно сплавляются в сверкающие комки и сгустки, прорываясь сквозь темные фоны. Формы мазков передают волнение художника, кисть его порой легка и летуча, порой медлительна, тяжела и остра — словом, нервна, динамична и уже сама несет заряд новой, чуткой эмоциональности. В его композиционных полотнах среда воспринимается как чувственное пространство. Так, в полотнах, где герои и героини показаны в церковных интерьерах, все пространство пронизано эмоциональными и смысловыми токами. Это не случайный выбор. В.Саакян любил разрабатывать мотив церковного или околоцерковного пространства, где его притягивала не только красота архитектурных форм, но, их насыщенная особой жизненностью историческая духовность. Такие композиции заполнены золотым, каким-то по-рембрандтовски таинственным свечением. Очертания плоскостей и объемов не обозначены линиями, однако мы всегда ощущаем строгость и стройность композиционного построения, а в пластике недооформленных фигур всегда запечатлена плавность движений, полных благородного величия. От этих картин художника исходит дух средневекового романтизма, колоритного, первозданного и народного. Глаз, ожидающий сумеречного полумрака, вдруг оказывается поражен торжеством света.
Без преувеличения можно утверждать, что концептуальным замыслом всех его работ является живопись, где свет стремится одержать победу над тенью. Этому посвящены и те многочисленные произведения В. Саакяна, где соучастниками этого процесса становятся образы. От движения тел в картинах, от их жестов преобразуется окружающий их воздух. В этих образах есть нечто призрачное и неуловимо легкое. Художник не награждает их обязательно одухотворенными лицами, но, разглядывая их, мы обнаруживаем одухотворенность в ином — в неожиданных сложных поворотах головы, в движении плеч и рук. Великолепное многообразие этих женских образов находится в прямой зависимости от света и освещенности. В.Саакян характеризует каждую фигуру, расставляя продуманные световые акценты так, что в итоге слияния всех приемов образы восходят к классическим основам. Они все прекрасны и в своей наготе, и в своих воздушно написанных платьях. Художник как истинный живописец являет их в таких сочетаниях и оттенках цветов, что они выглядят хрупкими и одинокими, но в этой хрупкости — отчаянное бесстрашие, а не покорность перед лицом неизбежных драматических жизненных ситуаций, перемежаемых ситуациями счастья и покоя.
Свою жизнь и творчество Владимир Саакян никогда не выставлял напоказ, она была скрыта от широкого круга художественной общественности. А главное в нем — его сокровенные мысли откроются (как это нередко происходит у нас) со всей остротой только на посмертной выставке мастера. Какие ресурсы наших душ они приведут в движение, какие неизведанные романтические драмы пробудят в нашем воображении!
В этом смысле гораздо счастливее оказались его бесчисленные ученики, студенты Ереванской академии художеств, где Владимир Саакян, сам окончивший это заведение в 1965 году (тогда Художественно-театральный институт), долго преподавал без нажима и менторства. Но как опытный воспитатель, он внушал своим подопечным, что жизнь далека от тепличных условий, но творчеством, высоким, честным и чистым, можно этой жизни противостоять, создавая на полотнах овеянные поэзией и романтикой миры.
Он творил реальность, где правила его поэтическая душа, и жизнь для Владимира Саакяна была сверкающим миражом, выстроенным из красок и человеческих чувств.