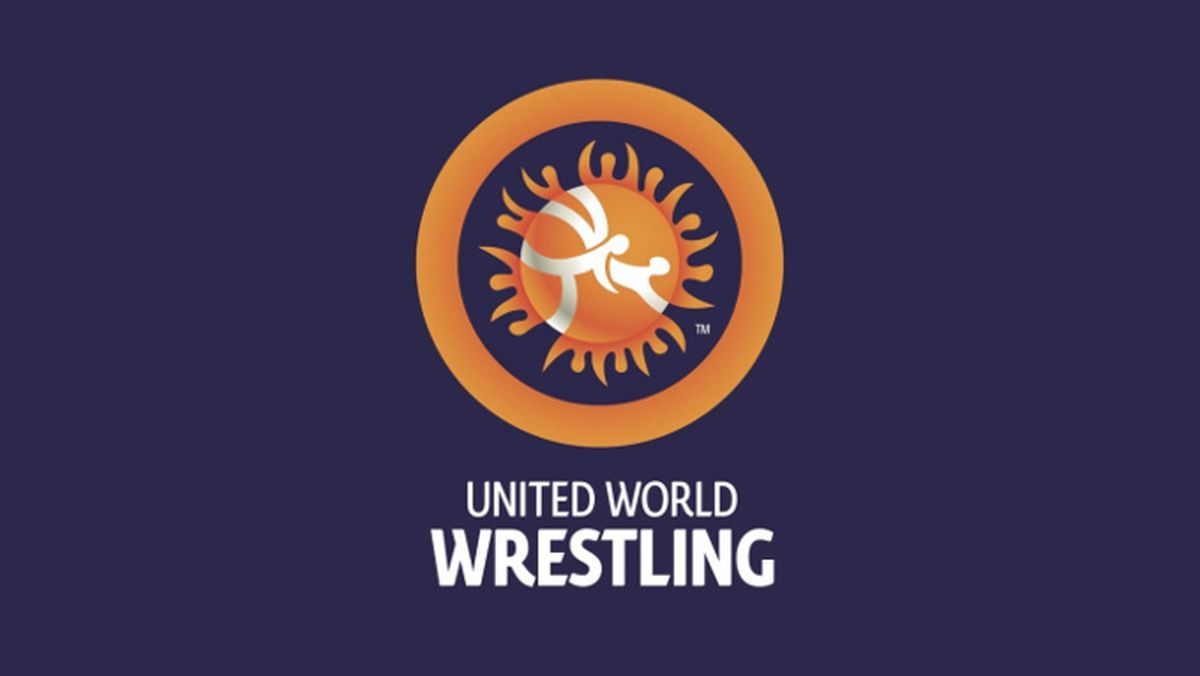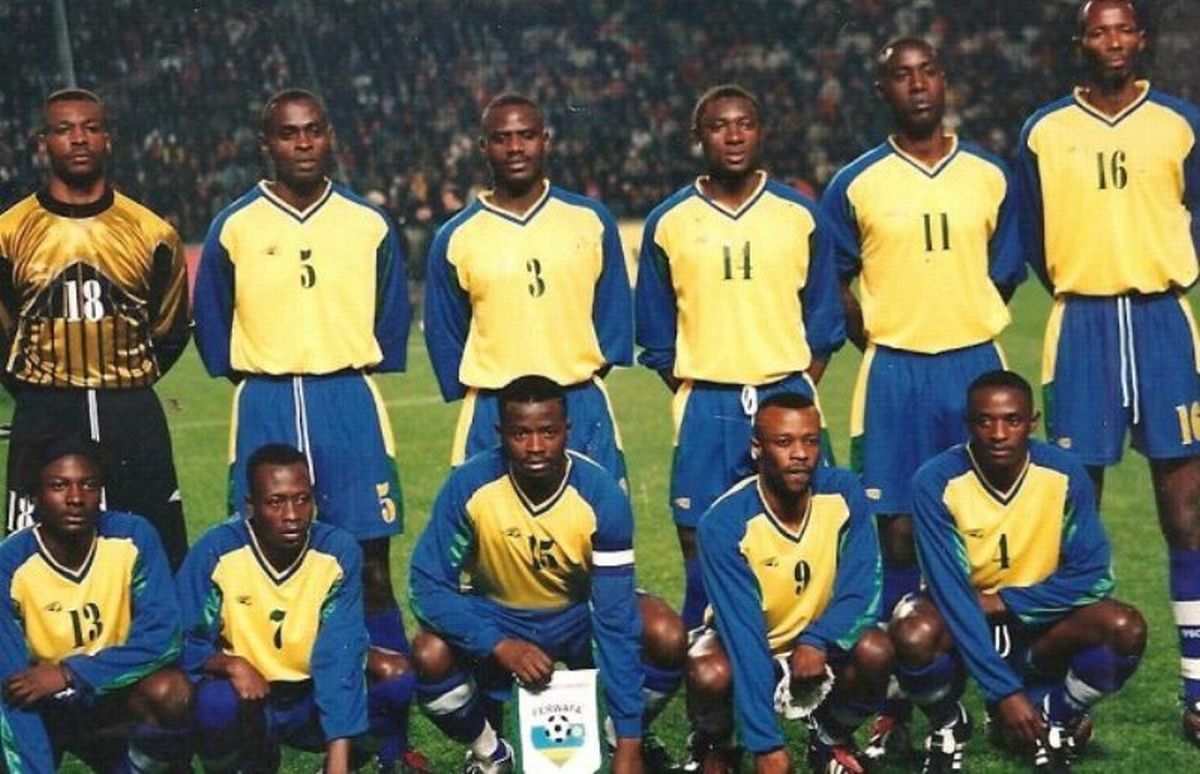считает президент исследовательского холдинга "Ромир", доктор социологических наук, академик РАЕН Андрей Милехин
— Г-н Милехин, ваша деятельность в сфере социологических исследований охватывает широкий спектр стран дальнего зарубежья. Проводите ли вы столь же масштабные исследования по странам СНГ?
— К сожалению, о системной работе по странам СНГ пока говорить не проходится. Мы участвуем во многих международных проектах, представляем Россию и СНГ в GALLUP INTERNATIONAL – крупнейшей ассоциации независимых компаний (в нее входят 60 стран), проводим исследования в рамках всевозможных крупных проектов. На постсоветском же пространстве, если что-то и делается, то только благодаря инициативе самих исследователей-социологов. Что касается нас, то периодически мы проводим исследования совместно с коллегами из Армении, Грузии (несмотря на сложные политические реалии), Украины и т.д. Однако те фрагменты, которые можно увидеть и сравнить, прямо скажем, не вызывают чувства удовлетворения. Проблема в том, что нет системного понимания. Еще вчера подобные социологические изыски по странам Содружества никому не были интересны – каждый строил свое независимое государство, систему государственного управления и продолжает этим заниматься. Говорится преимущественно об экономике, хотя, на мой взгляд, куда важнее знать и говорить о том, чего люди хотят, в чем они нуждаются, о чем думают. А в этом плане осмысленной политики не проводится. Соответственно, нет заказа на подобного рода социологические исследования.
— Какие выводы можно сделать исходя из результатов ваших исследований по Южно-Кавказскому региону? Давайте начнем с Грузии – ведь взаимоотношения между Грузией и Россией на сегодняшний день никак нельзя назвать добрососедскими…
— По Грузии самым знаковым для меня было то, что, несмотря на постоянные попытки (по крайней мере российских СМИ) внушить, как там все плохо и насколько неустойчива позиция властей, мы видим достаточно стабильную власть. Конечно, есть серьезные экономические проблемы, но общественное мнение в Грузии достаточно консолидированное и отношение к России (абсолютно убежден, что не к российскому народу, культуре или истории) крайне негативное. При этом, в отличие от многих стран постсоветского пространства, в Грузии наблюдается достаточно большое доверие к СМИ, что дает возможность манипулировать сознанием. То же самое происходит в России, когда повсеместно утверждается, что ситуация в Грузии просто кошмарная и не сегодня завтра там произойдет революция. Так и вспоминаются советские времена – с каким нетерпением мы ждали, когда бедные негры (тогда их еще можно было так называть) "свалят" своих угнетателей. Что касается Армении, то она всегда имела свое особое место. Будучи и в советское время мононациональной республикой, сохранившей преобладание армянского этноса и армянского языка (а у страны с такими древними корнями и историей по другому быть и не могло), Армения тем не менее всегда служила примером толерантности по отношению к гражданам других государств и к русским в первую очередь. Россияне всегда чувствовали себя комфортно в Армении, даже несмотря на болезненные проблемы, которые были и в недавней армянской истории. Все это, конечно, отражается в общественном мнении. Надо и понимать, что армянская диаспора — одна из самых больших и достаточно влиятельных в Москве. Думаю, Армения – это как раз тот пример, когда государства, не перемешанные этнически (еще раз повторюсь, что Армения была самой мононациональной советской республикой), всегда имели и будут иметь дружеские отношения – через культуру, искусство, религию, общую историю и т.д. Этот пример очень позитивный – не имея общих границ, люди сохраняют интенсивное общение.
— А вы в Ереване часто бываете?
— Достаточно часто. Я бывал в Ереване и в самые трудные, тяжелые годы середины 90-х годов. Никогда не забуду баночку с водой в гостинице и вырубленные леса около телецентра. Жуткое было время. Но я всегда чувствовал себя в Армении комфортно. Помню, фонари не горели, улицы были абсолютно темные, а мы гуляли ночью по Еревану, сидели в кафе, слушали джаз с друзьями, и они меня знакомили: вот наш министр обороны, вот наш оперный певец известный… Гостеприимство просто захлестывало – дышать было трудно от вкусной еды и смеха.
— А теперь расскажите о результатах своих исследований по Азербайджану.
— С Азербайджаном отношения очень двойственные. С одной стороны, у нас есть большая связь через диаспору – азербайджанская община одна из самых больших в Москве. По разным оценкам их число доходит до полумиллиона. Никто статистики точно не знает. Через бизнес отношения серьезные – много предпринимателей как армянских, так и азербайджанских активно работают в России, много чего создают. Но разрыв очень существенный — разрыв и политический, и ментальный. Все-таки эта страна мусульманская и тяготеет так или иначе к странам со схожей историей. Кстати, Азербайджан – единственная страна, которую не приняли даже в ассоциативные члены GALLUP INTERNATIONAL.
— Никогда не было стремления объединиться в более мощное социологическое сообщество именно в рамках СНГ с тем, чтобы проводить совместные исследования, обмениваться опытом?
— Мы пытаемся это делать, но пока это только наша инициатива и пока что дело идет натужно.
— То есть на государственном уровне нет осознания того, что социология – весьма ценная наука, прикладное значение которой трудно переоценить.
— Такого осознания не только нет, но даже наоборот – есть некоторая дискредитация. К сожалению, наши государственные мужи к социологии относятся так же, как к уличной девке, которой надо поставить задачу и получить ожидаемый результат. Зачастую им это удается, что, конечно, дискредитирует социологию. Вот вы говорите об инициативе создания серьезного сообщества социологов по СНГ, и я согласен абсолютно, что это нужно. Более того, мы в свое время с такой инициативой выступили, и я крайне благодарен коллегам из разных стран (приняло участие 15 стран), включая Армению, за то, что удалось реализовать большой проект. Мы все одновременно поставили одинаковые вопросы, целью которых было выяснить, как люди относятся к миру, к нашему прошлому и будущему, Содружеству и т.д. К работе удалось привлечь даже Китай и страны Восточной Европы. И что вы думаете? Это оказалось никому не интересно на государственном уровне. Поразительное равнодушие проявили и СМИ. А через какое-то время нечто похожее было сделано по госзаказу и закончилось все тем же, что поставили галочки – не более того. Просто в постановке задачи я вижу другие цели – показать, что все хорошо, а кто-то плохой. Мы же преследовали совсем другую цель: нам было важно понять глубинные причины и факторы, как объединяющие, так и разъединяющие нас на уровне простых граждан, а не на уровне политиков.
— Выходит, если социологией нельзя манипулировать, так она и не нужна?
— Выходит, так… Такое ощущение, что в самом деле к политической и социальной сфере исследований на государственном уровне относятся либо потребительски, либо просто игнорируют. Либо гробят, если, не дай бог, цифры не понравятся.
— Что для вас оказалось наиболее шокирующим в ваших исследованиях по СНГ?
— Ответы молодежи… Новое поколение совсем другое, и это нормально. Плохо то, что наши дети, как выясняется, даже на элементарном уровне не имеют внятной картины нашего недавнего прошлого. А это, на мой взгляд, самое настоящее преступление против них, ибо любой отрыв от корней, от своей истории всегда плох. Мы, увы, не создали для молодых осмысленного, правдивого понимания нашей недавней истории, которая сегодня зачастую либо повально очерняется, либо умалчивается, либо искаженно интерпретируется.