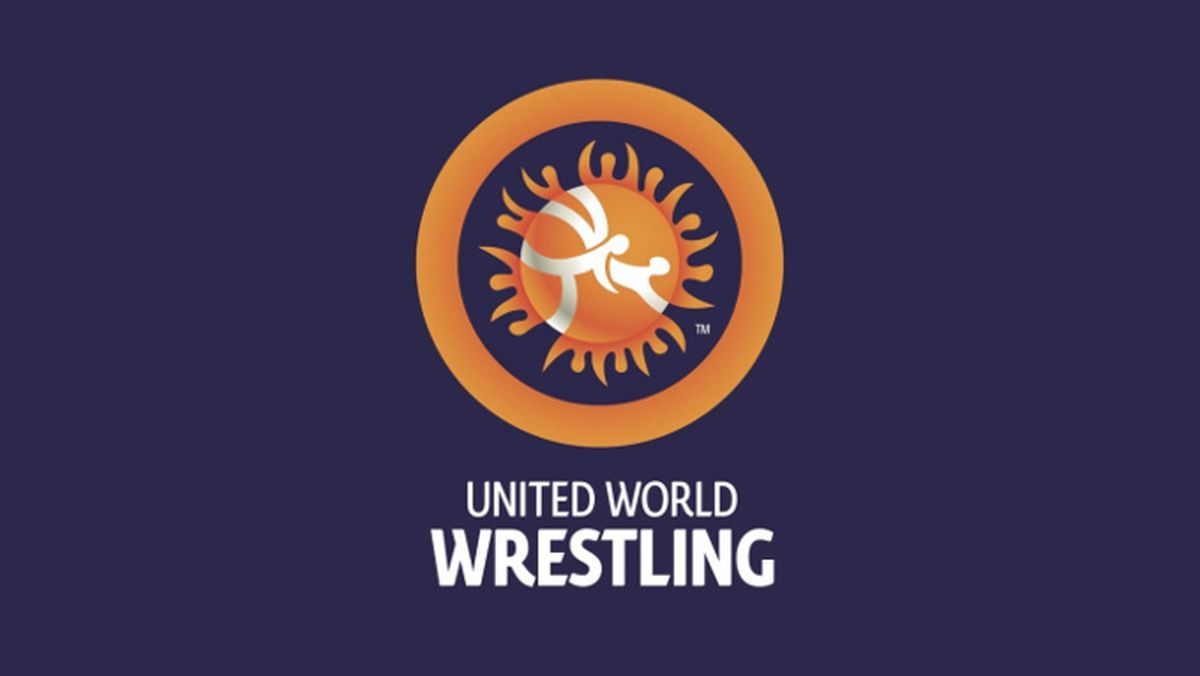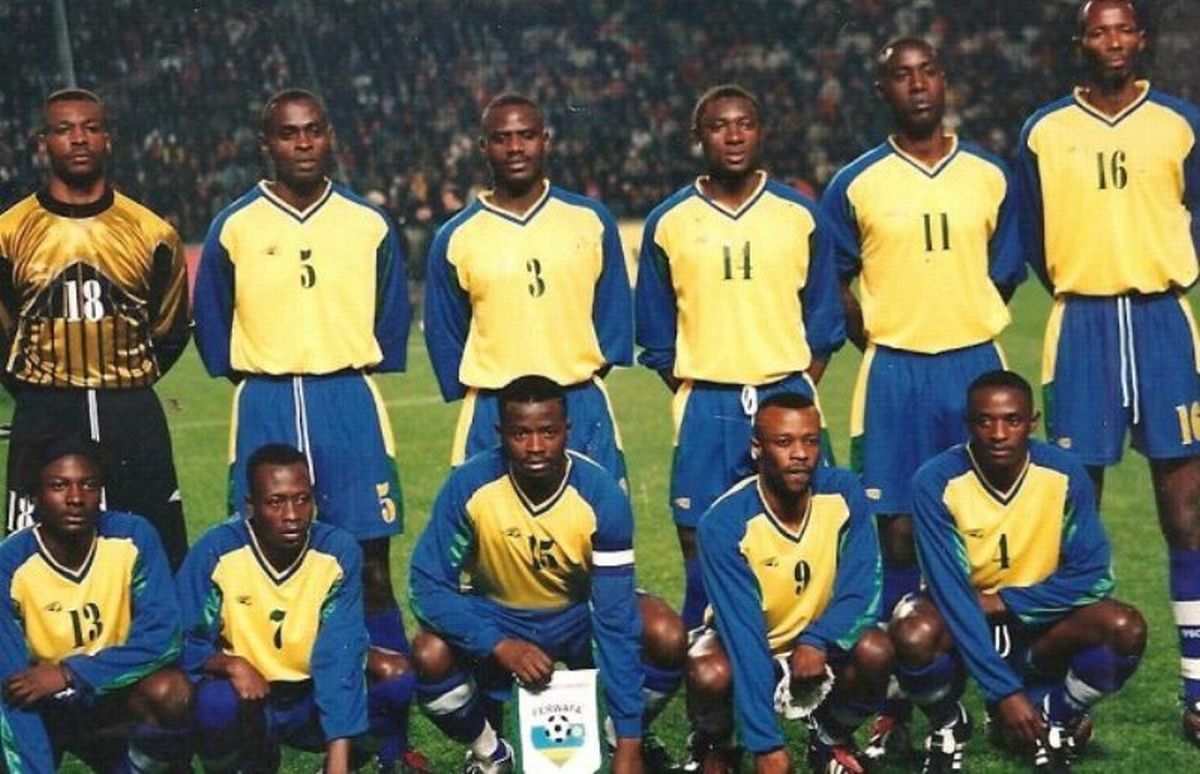— Отец Шмавон, недавно вы озвучили цифру, которая наталкивает на серьезные размышления. В Ереване — городе с миллионным населением действуют всего 26 священников, а в целом по Араратской епархии их всего около сорока. Разве этого достаточно?
— Конечно, недостаточно… В Армянской Апостольской Церкви раньше было очень много действующих монастырей и достаточное число священников. До революции и становления советской власти в каждой деревне была церковь и свой священник. Результатом же богоборческой деятельности в советское время стало то, что уже в конце 40-х — начале 50-х годов прошлого столетия в Первопрестольном Эчмиадзине осталось только девять монахов, включая Католикоса.. Священников становилось все меньше, мало кто шел учиться в семинарию, а те, кто учился и заканчивал, зачастую не становились священниками, так как гонения на священнослужителей, хотя и не открыто, но были. К примеру, человека однозначно исключали из партии со всеми вытекающими обстоятельствами, если он решал поступить в семинарию. И так продолжалось до 90-х годов, то есть до обретения Арменией независимости. В годы независимости В Армении открылись новые семинарии — Севанская семинария им. Вазгена I и Ширакская семинария. Священников стало больше. Но прошло уже 19 лет, как мы обрели независимую государственность, а ситуацию с кадрами по-прежнему нельзя назвать удовлетворительной. В Ереване на почти миллионный город приходится 26 священников. По всей Араратской епархии их всего около сорока. И, заметьте, это самая большая епархия с самым большим числом священников. Если учесть, что каждый священник имеет в неделю один свободный день, если учесть, что большинство священников женаты и имеют семью, которой нужно уделять внимание, и принять во внимание, что в церкви всегда должны присутствовать один или два священника для треб, то выходит, что ситуация с нехваткой кадров действительно серьезная. Сегодня по самым минимальным меркам в Ереване должно быть не менее 333 священников, чтобы на каждые 3000 человек проходился хотя бы один священник. В конечном итоге от числа священников напрямую зависит качество проводимой ими работы. Это и проповеди, и встречи с паствой, и объяснительные беседы и т.д.
— Можно ли сказать, что на сегодняшний день нет постоянного взаимодействия между паствой и священником?
— Крайне мало. Только по воскресеньям и, возможно, еще пару дней в неделю есть возможность встречаться с паствой. Я согласен с тем, что сегодня нам нужны священники, не прикованные обязательно к одной церкви. Пусть они ходят по домам, знакомятся с людьми, входят в семьи, вникают в их проблемы — ведь это важно и нужно.
— Сколько молодых сегодня изъявляют желание стать священнослужителями и поступают в семинарию?
— Их не много — в год поступают от силы 50 человек. Они учатся пять лет, и за эти пять лет добрая половина отсеивается. Кто-то не может учиться, кого-то исключают по тем или иным причинам. В итоге выпускников остается очень мало. Я помню, на нашем курсе при поступлении было 16 человек. Окончили всего восемь. После окончания из этих восьми двое решили оставить духовное поприще и занялись чем-то другим. Таким образом, нас осталось всего шестеро. Вот вам простая арифметика в реальности. От слияния двух курсов (я учился в Севанской семинарии, потом в Эчмиадзине) выпуск составил всего 28 человек. А реально священниками стали всего 20 человек. Этого совершенно недостаточно. Проблемой нехватки кадров необходимо заняться вплотную…
— В советское время общество, скажем так, было атеистическим. Но когда атеизм отменили, число людей, приходящих в церковь, увеличилось. Увеличилось ли число истинно верующих? Или эти две категории разделять некорректно?
— В этом нет никакой некорректности. Действительно, есть люди, которые просто приходят в церковь, ставят свечку и уходят — для них это своего рода способ самовыражения веры. А есть такие, которые приходят в церковь общаться с Господом — до, во время и после литургии… Конечно, трудно разделить их на истинно верующих и не истинно верующих. Мы не сможем вникнуть в суть их души. Но по плодам познается древо. Если людей, приходящих в церковь поставить свечку, много, а людей, посещающих литургию, мало, значит не все ладно. К сожалению, приходится констатировать, что первых сегодня больше…
— Должна ли ААЦ представлять себя в СМИ, то есть, грубо говоря, пиарить? На мой взгляд, в сегодняшних реалиях очевидной духовной деградации общества и расцвета сектантства, особенно среди молодежи, крайне важно, чтобы голос церкви постоянно был слышен, чтобы вопросы духовной жизни, веры, религии как можно чаще обсуждались со страниц наших СМИ, на телевидении и радио. Это важно еще и потому что в последнее время нападки на Армянскую Апостольскую Церковь участились, в частности, со стороны оппозиционных СМИ… И церковь никак на них не отвечает.
— На нападки церковь не отвечает потому, что, если ты отвечаешь, то тем самым как бы оправдываешься. Согласитесь, что цель нападок — в основном провокация, а отвечать на провокацию как минимум неразумно. Конечно, бывают такого рода нападки или злостная клевета, на которую нужно отвечать, и церковь это делает. Что касается пиара, то в этом я с вами согласен — ААЦ должна себя представлять как можно полнее. Собственно, сегодня через СМИ и в интернете есть множество доступных способов узнать об Армянской Апостольской Церкви практически все. У нас, например, есть епархиальный сайт, в котором можно найти самую разнообразную информацию — церковную музыку, интересные публикации на духовные темы, вопросы-ответы… Конечно, можно делать больше. Я обратился с предложением в Первопрестольный Эчмиадзин, чтобы через мобильные сети посредством SMS-сообщений вести проповедническую деятельность. Уверен, что наши операторы не будут против за символическую плату рассылать сообщения своим абонентам с поздравлениями различных религиозных праздников. Представьте, на каждый большой праздник вам приходит поздравление и благословение от Святого Эчмиадзина. Сегодня это делается только по двум-трем праздникам, а я говорю обо всех церковных праздниках, Днях Святых, паломничествах. Скажем, сообщение такого содержания: "Дорогие верующие! Сегодня день Святой Рипсиме (или Святой Гаяне). Поощряется всякое паломничество в эти храмы. Господь да благословит вас…" И это читают два миллиона человек. Много чего можно делать и многое делается. Проблемы же упираются в нехватку финансов и людей.
— В сентябре в церкви Сурб Хач на острове Ахтамар должна будет проводиться служба. Известно, что Святая Литургия может проводиться только в освященном храме. Между тем турки, растрезвонив на весь мир реставрацию армянской церкви, низвели ее до статуса музея. Если это музей, то как там может проводиться служба, а если церковь будет освящена и будет проведена Литургия, то как освященный храм может превратиться обратно в музей? Не идет ли речь об очередном фарсе?
— Вы все сказали абсолютно верно, и я согласен с тем, что единственная цель Турции в вопросе Сурб Хача — пустить пыль в глаза международной общественности. Если турки действительно хотят открыть храм, то он должен быть провозглашен как христианский храм. Пусть он будет закрыт в течение недели и открывается в установленное время, как это делается в Турции в других храмах. Реставрация церкви — тоже пыль в глаза, ибо отремонтировали ее турки весьма своеобразно и как им удобно. Отремонтированные строения они поставили на двускатные крыши, которые там быть не должны, потому что они закрывают многие узоры на стене. Я сам это видел. После реконструкции внутри храма на алтарях нет Святого Престола — нигде. То есть Престола, на котором проходит Литургия, нет. Нет креста на церкви… Да, турки сделали ремонт, почистили, но они не могли этого не сделать — ведь они так рвутся в Европу. Если крест будет поставлен, то снять его не имеют права — ведь крест освятят. А крест должен быть поставлен обязательно, и Литургия должна проходить в освященном храме.
— Стало быть, Сурб Хач будет освящен?
— Логически — да.
— А практически?
— Практически этого никто еще не знает, равно как и то, каким будет статус этого храма. Но я исключаю возможность фарса, ибо речь идет о проведении в церкви Святой Литургии. Статус же музея должен перестать действовать. Музеем может оставаться территория храма, а не сам освященный храм…