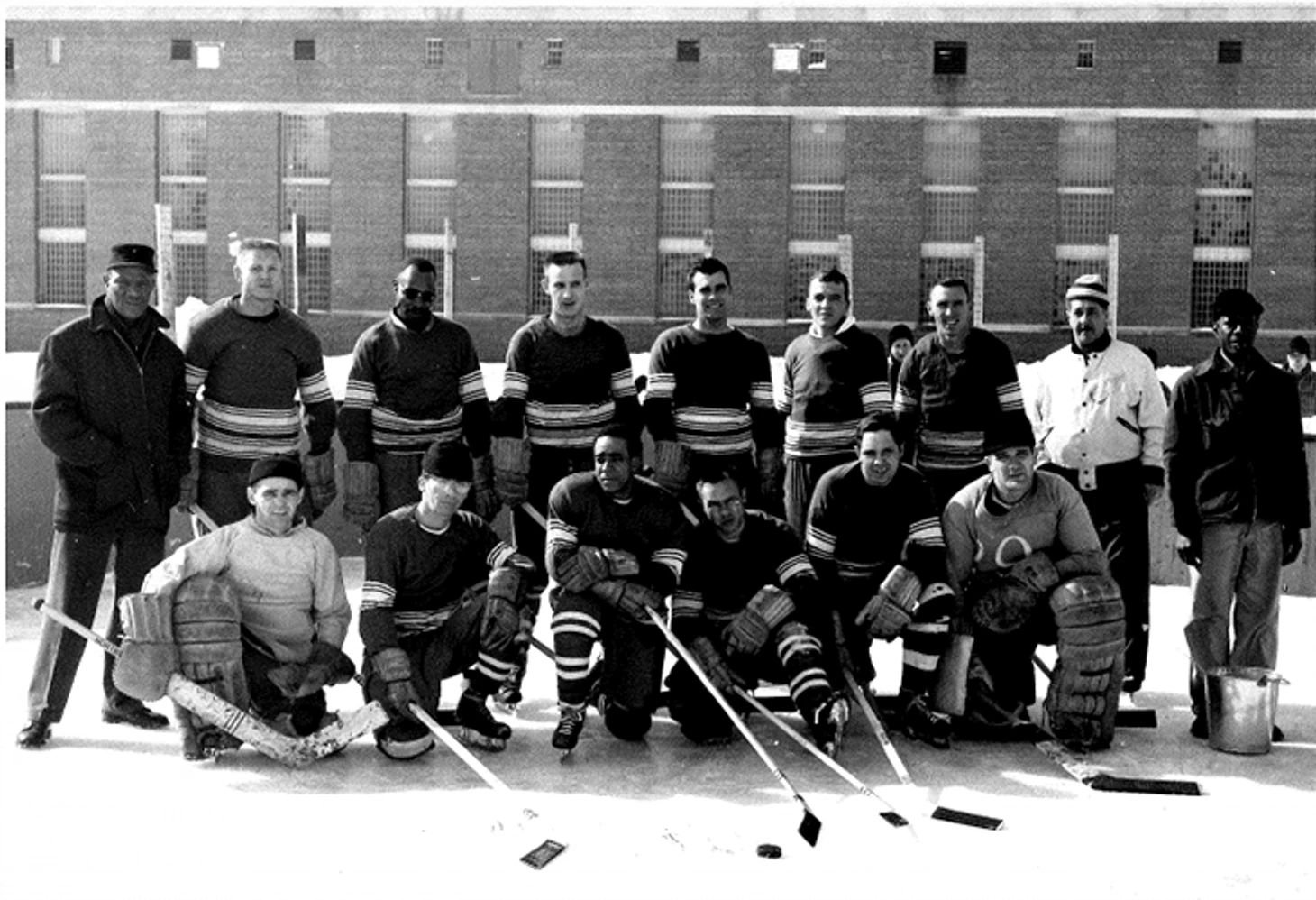В последние годы, несмотря на спартанский режим финансирования, Филармонический оркестр Армении под управлением Эдуарда Топчяна все увереннее атакует оперный жанр, страстно желая возродить его былое значение и радуя нас концертным исполнением известных шедевров. Но теперь он идет уже по пути осложнения своей задачи, замахнувшись на полноценный спектакль, правда, без обычного оперного антуража, пышных декораций, зато с хорошим ансамблем солистов. Что из этого получилось, показала и последняя премьера сезона — "Евгений Онегин" П.Чайковского на филармонической сцене. Этой работой филармонический оркестр отметил юбилейную дату — 170-летие со дня рождения выдающегося русского композитора.
Знаменательно, что опера "Евгений Онегин" вошла в репертуар нашего Оперного театра, созданного в 1933 году, в первый же сезон, в режиссуре А.Бурджаляна. В последний раз в 1964 году опера была поставлена Р.Капланяном, но еще до этого через каждое десятилетие к опере обращались И.Волчек, Г.Мелкумян. Огромный успех имела и другая опера Чайковского — "Пиковая дама", поставленная нашим замечательным оперным режиссером Ваагном Багратуни.
Обращение к популярной опере Чайковского — задача непростая. Ведь среди слушателей обязательно найдутся те, кому есть с чем и с кем сравнивать. Поэтому при сложности темы, при непривычности жанровых особенностей отважиться на создание спектакля "Евгений Онегин" можно было, только имея творческих союзников. Таким союзником показался Виген Чалдранян. Известный кинематографист к опере обратился впервые, и ничего удивительно нет в том, что спектакль во многих отношениях оказался уязвимым. Он же выступил и в качестве сценографа и художника по костюмам. Конечно, говорить о полноценном спектакле при минимуме средств (главный спонсор — Министерство культуры) и в условиях филармонического зала, где отсутствует оркестровая яма, не приходится.
Зайдя в зал, зрители застали необычную картину — половину зала в партере занял оркестр, а большую часть сцены — громоздкий постамент со стульями и креслами, с бильярдным столом в центре, который по необходимости иногда превращался в кровать. О том, что не худо бы иметь хоть какую-то декорацию, напоминала лишь висящая над сценой клетка с белым голубем, которого дважды за спектакль выпускали на волю. Не совсем верное использование сценического пространства явно мешало и хору "Овер", артисты которого с трудом находили себе место в ограниченном пространстве. Поэтому не всегда были достаточно осмыслены движения и перемещения хора по сцене. Конечно, сегодня никто так бы не поставил спектакль, где костюмы не соответствуют эпохе, где эстетика не отвечает природе оперы Чайковского.
В спектакле действие происходит на нарочито "кустарных" платформах, ассоциирующихся с самодельными подмостками народных театров. Ощущение, что в спектакль входит дух комедии dell’arte с ее умением обходиться минимальными средствами. Насколько это соотносится с духом оперы Чайковского — не берусь судить.
По мысли самого композитора, для Онегина ему нужны: "1) певцы средней руки, хорошо промуштрованные, 2) певцы, которые вместе с тем будут просто, но хорошо играть, 3) нужна постановка не роскошная, но соответствующая времени очень строго; костюмы должны быть непременно того времени, в котором происходит действие оперы". Из требований автора оперы в нашем случае выполнены только два первых пункта. Но в целом спектакль все-таки был встречен с интересом.
Думается, что основная причина того, что спектакль-концерт от начала до конца держит зрителя в напряжении, — заслуга дирижера и его оркестра. Слаженность исполнения, верно найденное соотношение между вокальной и инструментальной частями партитуры говорят о большой, кропотливой работе, проделанной с певцами и оркестром. Пожалуй, ни в одной из прежних работ в этом жанре дирижер не был так убедителен. Во всем чувствуется бережное отношение к композиторскому замыслу, стремление воплотить его с предельной простотой. Свободно, с большим чувством создавая цельную музыкальную форму, Топчян на этот раз с особой тщательностью моделирует каждую интонацию, соотнося звучание каждой вокальной и инструментальной фразы со сценическим движением, жестом, паузой. Здесь им счастливо найдено так трудно достижимое слияние видимого и слышимого. В спектакле ощущается тот единый эмоциональный ток, который придает исполнению оперы цельность и позволяет повести за собой и оркестр, и хор, и солистов, хотя порой такое целостное видение партитуры натыкается на некоторую инертность исполнителей.
…Легкий взмах руки — и скрипки начинают взволнованное и неторопливое повествование. Звучно пропевают речитатив виолончели и контрабасы. И снова скрипки выпевают начальную тему, создавая ощущение масштабности и завершенности. Это не просто короткое лирическое вступление к опере, а пролог драмы, предлагаемый дирижером.
На сцене Ларина (Роза Овсепян) и няня (Нарине Ананикян). "Слыхали ль вы…" доносится до нас пение невидимых Татьяны и Ольги. Это необычно — поскольку едва ли не все участники квартета (Ольга, Ленский, Татьяна, Онегин) обычно бывают представлены на сцене с первых же его звуков. Замечательно компонуются тембры Татьяны (Сюзанна Мелконян, сопрано) и Ольги (Грета Багиян, контральто) и двух очень разных меццо-сопрано — Лариной и Филиппьевны (няни).
Завязку драмы — встречу Татьяны с Онегиным, которая разрушает жизни всех участников квартета, уже раскрыл нам оркестр взволнованным потоком звуков при известии о приезде Онегина, роль которого исполняет белорусский баритон Станислав Трифонов. Кстати, в его исполнении образ Онегина получился недостаточно выразительным. Сказалось отсутствие репетиционного времени: слишком поздно певец был введен в спектакль.
Сцена письма — одна из замечательных сцен спектакля. Многочисленные темповые следования создают удивительное сочетание внутренней конфликтности и цельности. В этой сцене ярко проявляется важное музыкально-стилевое свойство спектакля: сочетание масштабности симфонического развития и признаков камерного мышления. В ней великолепна молодая певица Сюзанна Мелконян. Она органично живет на сцене в каждый момент действия. Привлекает и голосом, и отличной дикцией, и впечатляющим сценическим рисунком. Она — главная героиня оперы и наиболее полно отвечает ее образу, горячо и проникновенно раскрывая свою внутреннюю драму. Великолепна она и в финале, где предстает уже иной Татьяной, но по-прежнему искренней и непосредственной.
Одна из удач постановки — образ Ленского в воплощении тенора Ованеса Айвазяна. Задушевность, обаяние, теплоту раскрывает он в первом же ариозо "Я люблю вас…" В этой роли он восхитил не только точными и разнообразными вокальными красками, но и незаурядным даром перевоплощения. Сценически проработана и партия князя Гремина в исполнении Сурена Шахиджаняна. И в вокальном, и в сценическом отношении он исполняет свою партию прекрасно. Огромная работа проделана в подготовке спектакля и концертмейстером Левоном Джавадяном.
Во всем, что касается музыки, спектакль-концерт вдохновляет. В нем чувствуется энтузиазм и огромная любовь к автору музыки. Опера "Евгений Онегин" стала не только вершиной концертного сезона для филармонического оркестра, но и событием для оперных артистов, позволившим им с новой силой раскрыть свои творческие возможности.