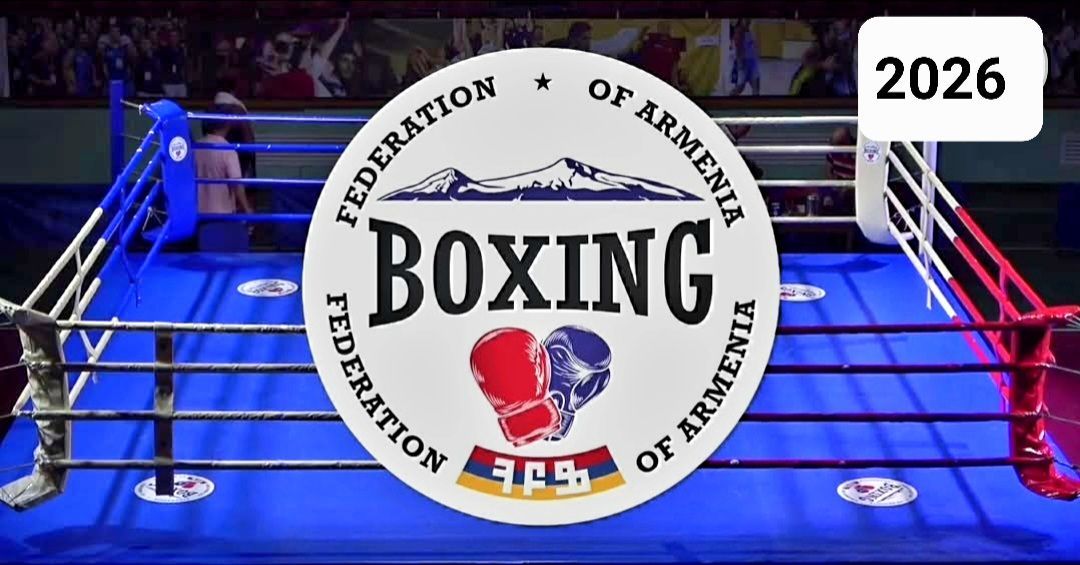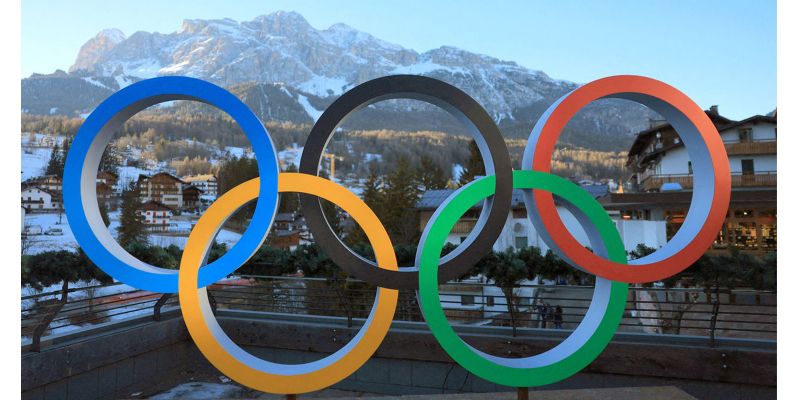Шаракан, давно ставший образцом, эталоном и все равно продолжающий изумлять, — строгий, как доктрина, и льющийся, как мелодия. Шаракан — линия, связывающая день сегодняшний с вечностью, графически сжатая линия между землей и небесами. К линии добавляется «пленэр» — мощный, зримый, оттеняющий линию как итоговую формулу, освобождающий от неразберихи ума и сердца.
В тишине своей комнаты-студии композитор и певец Ваан АРЦРУНИ соединяет остов и надстройку — оркеструет шараканы Месропа Маштоца, которым предстоит сложиться в новый диск — «Маштоц. Метаморфозы».
— Ваан, то, чем ты сейчас занимаешься, — удовольствие, своеобразное исследование, попытка приблизить аудиторию к национальным сокровищам?..
— Со временем, когда проснется интерес, когда начнется вестись настоящая работа — методологическая, когда появится научный подход, там еще много чего откроется. Христианская музыка описана, но не доисследована, ну, конечно же, не популяризирована. Шараканы — главный материал церкви, основа ритуалов, и выносить их из контекста церкви на сцену — это, как правило, очень тяжелые концерты, не каждый исполнитель может позволить себе такую программу. В концертном зале нет соответствующей глубины восприятия — она теряет в сакральности… А вообще-то это все абстрактные рассуждения. На самом деле эта музыка, можно сказать, вообще не исполняется, а если исполняется, то в обработанных версиях Комитаса и так далее. Я делаю попытку вывести эту музыку из контекста чисто ритуального, придать ей какую-то более светскую форму. И если это ориентирует слушателя на настоящее, на исконную форму исполнения, значит, какую-то популяризаторскую роль сыграет. То, чем я занимаюсь, по большому счету постмодерн. Во всем мире огромное количество музыкантов в студии работают именно так. Особенно те, кому интересен архаический план культуры, того, что мы называем наследием. В исконном формате эта музыка исполняется в церкви. А моя работа — попытка придать этому новое значение.
— И, так или иначе, свою субъективную трактовку…
— А идею своего отношения я вывожу в название — проект будет называться «Маштоц. Метаморфозы», и он такой, каким ты его услышала. В принципе это набор академических средств — хор, духовые инструменты и симфонический оркестр. Я остаюсь в контексте своего подхода — отношусь к исполнению, как к документальному материалу. Так было с ассирийцами, с маронитской музыкой. Тот же принцип сохранил здесь — записываю сначала голос, а потом как бы достраиваю. То есть тембр, манера исполнения, глубина — словом, весь созерцательный план исполнения, грубо говоря, подспорье. Я основываюсь не только на нотах, а на том состоянии, в котором позиционирует себя исполнитель. По форме это совершенно студийный проект, который решается семплерным, компьютерным способом. Это никогда не будет исполнено вживую.
Такие произведения, как шараканы Маштоца, — это основа основ, базис нашей музыкальной культуры. Это музыка кодов, тех значений, которыми описывается наше культурное лицо. Музыка ведь наиболее абстрактная форма выражения идеи, она не только вызывает какие-то эмоциональные ощущения, но и обладает удивительным свойством — работает непосредственно на уровне подсознания. Тем более музыка древняя — она напрямую работает с теми архетипами, которые есть в каждом из нас, на основе которых мы формируем представление о себе как о национальной единице. Мне эта музыка — этот пласт — наиболее интересна, потому что она наиболее достоверна. Такая музыка — маштоцевская, армянская духовная музыка — обладает универсальным свойством воздействия. Людей, безучастно ее прослушивающих, не существует. Она работает на тех уровнях, на которых современная музыка просто шанса не имеет работать.
— А разве здесь нет противоречия? Если «работает на сверхуровнях», стоит ли «замахиваться на Месропа нашего Маштоца»?
— Конечно, это те сокровища, к которым нельзя прикасаться просто так. Не нечто вон там лежащее, к чему можно подойти и что-то такое там сделать. Во всяком случае у меня было очень трепетное отношение, заставляющее себя сдерживать. Хотя в свое время исполнял эти шараканы, когда еще пел в хоре «Нарек». Но в недавний период возникли сотрудничество с Асмик Багдасарян и мысль создать очень широкую палитру — от каждого века по одному шаракану. Мы записали весь материал — 15 шараканов, каждый из которых иллюстрирует очередную ступень духовного развития, а потом Асмик предложила дописать Маштоца. Сначала идея отошла на какой-то тридцать третий план, а потом я вдруг спонтанно сконцентрировался на этом. Как-то занесло в V век. А сейчас оформилась цельная концепция. Мы имеем дело с тем, что является базисным, очень дорогим и очень важным. Не только для меня — для слушателей, для всех нас. Потому что такие примеры — примеры, к которым нет вопросов, которые по ту сторону каких-то оценок, качественных категорий, они и есть основа нашего мироощущения. И через все, что нам сегодня мешает, что нас окружает, в первую очередь благодаря телевидению — через все эти наносные слои — не проглядеть бы вот этого. Это самое настоящее — то, что на самом деле должно нас питать. То, что обладает потенциалом очищения. Не знаю, как получилось у меня, но вообще, когда я слушаю эту музыку, ощущение благодати, которая исходит от нее, какое-то дыхание веков, глубины содержания — они очевидны.
— А прикасаясь к такой глыбе, нет внутреннего сомнения? Или опасения, что взвоют специалисты или прогневается церковь?
— Естественно, есть. Больше, чем я сам себя ем, никто меня съесть не сможет. Есть люди, которые занимаются этой сферой, но их не слишком много, и мы настолько тепло относимся друг к другу, что каких-то потрясений я не ожидаю. Можно только пожалеть, что людей, способных выразить адекватное, а главное, компетентное отношение, так мало. Я имею в виду музыковедческий разговор. Ну а церковь — это же ресурс церкви! Эту проблему лет сто назад исчерпал Комитас. Мы точно не находимся в ситуации каких-то инквизиторских проявлений, потому что все, кто приобщен к этой музыке, прекрасно понимают, что любые формы популяризации на этом этапе хороши. Ну и потом, я же не увожу слушателя, наоборот, стараюсь таким способом его ориентировать.
— Разве реально в наших условиях такую музыку популяризировать?
— Это я знаю не абстрактно. У нас уже есть изданная литургия, которой уже нет, весь тираж кончился. Или ассирийская музыка — даже продажи в Ереване не было, все ушло за границу.
— Ладно ассирийская музыка. Но своя, корневая, должна иметь свой же рынок!
— Рынка нет. Я даже думаю, что реальный интерес на Западе будет больший и более компетентный и грамотный, чем в нашем отечестве. Мы находимся в ситуации, когда наша духовная культура стала достоянием очень небольшого круга людей, которые понимают ее безоговорочный приоритет. И это не их проблема — это проблема того большинства, которое не в курсе. Потому что сказать, что процессы, которые идут в области искусства, приторможены-заторможены, — нет! Даже в самые тяжелые годы, те, кто преданно занимался музыкой, живописью, театром, снимал кино, они свое дело делали. Процесс прервать невозможно. Вопрос в том, сопричастна ли к нему публика. Аудитории все меньше и меньше, ее скоро вообще не будет. Ситуация давно меня не удивляет. Но это же не значит, что надо все бросить, прекратить и не делать.
— Здесь, как правило, следует лягнуть вездесущее и всепоганящее телевидение…
— Мне кажется, телевидение «воспитывает» там, где нет семейного воспитания. Но представить, что это девяносто процентов нации, я не могу. Проблема не в телевидении — проблема в безкультурных семьях. Проблема в том, что в этих семьях детям никто не объясняет, что где лежит. Нет разговора о культурных приоритетах.
— А тебе не кажется, что, если каждый, способный о них говорить запрется анахоретом в своей студии, все разговоры вообще кончатся?
— А в какой форме существовала армянская творческая интеллигенция? Давай отсчитывать от середины XIX века, когда пошел просветительский бум: Константинополь, Тифлис. Интеллигенция была примерно в том же статусе. Она сформулировала какую-то стратегию, которая нашла свое воплощение в национальной школе, — какие-то гимназии и т.д., начали издаваться газеты-журналы, которые пропагандировали современную литературу, и возник армянский театр. Этой традиции от силы 160-170 лет. То есть творческий человек своего места в армянском обществе еще не определил. Вернее, общество не определило его места и своего отношения к нему. Что такое артист в армянском обществе? Мы вернулись на исходную позицию. Была очень небольшая группа людей, которая занималась культурой и искусством, и такая же небольшая группа их финансировала. Музыковедческая традиция на Западе имеет за плечами несколько столетий, и это не один человек, это когорта, это поколения, которые занимаются музыкальным анализом и описанием музыки. А Комитас в 1910 году говорит, что его одной жизни на все точно не хватит. Еще говорит, что некому руку пожать, что нет человека, который бы разделил с ним это бремя. Так что, с одной стороны, одной жизни может не хватить, а с другой, слава богу, XXI век, компьютер, техника, которая освобождает от огромного количества зависимостей. Например, получить то звучание, которое ты слышала, через привлечение живых исполнителей — в Армении я бы этого не добился. Потому что в Армении четыре валторны играть вместе не фальшиво не могут. И целый ряд других проблем. Почему я так фокусируюсь на этом? Не было бы этой технической возможности, не было бы подходов, которые обуславливают мою творческую свободу. Благодаря работе над Маштоцем я привел в порядок абсолютно все — от образа мыслей и чисто психологического состояния до отношения к вещам. И думаю, это выход не только для меня.
В тишине своей комнаты-студии композитор и певец Ваан АРЦРУНИ соединяет остов и надстройку — оркеструет шараканы Месропа Маштоца, которым предстоит сложиться в новый диск — «Маштоц. Метаморфозы».
— Ваан, то, чем ты сейчас занимаешься, — удовольствие, своеобразное исследование, попытка приблизить аудиторию к национальным сокровищам?..
— Со временем, когда проснется интерес, когда начнется вестись настоящая работа — методологическая, когда появится научный подход, там еще много чего откроется. Христианская музыка описана, но не доисследована, ну, конечно же, не популяризирована. Шараканы — главный материал церкви, основа ритуалов, и выносить их из контекста церкви на сцену — это, как правило, очень тяжелые концерты, не каждый исполнитель может позволить себе такую программу. В концертном зале нет соответствующей глубины восприятия — она теряет в сакральности… А вообще-то это все абстрактные рассуждения. На самом деле эта музыка, можно сказать, вообще не исполняется, а если исполняется, то в обработанных версиях Комитаса и так далее. Я делаю попытку вывести эту музыку из контекста чисто ритуального, придать ей какую-то более светскую форму. И если это ориентирует слушателя на настоящее, на исконную форму исполнения, значит, какую-то популяризаторскую роль сыграет. То, чем я занимаюсь, по большому счету постмодерн. Во всем мире огромное количество музыкантов в студии работают именно так. Особенно те, кому интересен архаический план культуры, того, что мы называем наследием. В исконном формате эта музыка исполняется в церкви. А моя работа — попытка придать этому новое значение.
— И, так или иначе, свою субъективную трактовку…
— А идею своего отношения я вывожу в название — проект будет называться «Маштоц. Метаморфозы», и он такой, каким ты его услышала. В принципе это набор академических средств — хор, духовые инструменты и симфонический оркестр. Я остаюсь в контексте своего подхода — отношусь к исполнению, как к документальному материалу. Так было с ассирийцами, с маронитской музыкой. Тот же принцип сохранил здесь — записываю сначала голос, а потом как бы достраиваю. То есть тембр, манера исполнения, глубина — словом, весь созерцательный план исполнения, грубо говоря, подспорье. Я основываюсь не только на нотах, а на том состоянии, в котором позиционирует себя исполнитель. По форме это совершенно студийный проект, который решается семплерным, компьютерным способом. Это никогда не будет исполнено вживую.
Такие произведения, как шараканы Маштоца, — это основа основ, базис нашей музыкальной культуры. Это музыка кодов, тех значений, которыми описывается наше культурное лицо. Музыка ведь наиболее абстрактная форма выражения идеи, она не только вызывает какие-то эмоциональные ощущения, но и обладает удивительным свойством — работает непосредственно на уровне подсознания. Тем более музыка древняя — она напрямую работает с теми архетипами, которые есть в каждом из нас, на основе которых мы формируем представление о себе как о национальной единице. Мне эта музыка — этот пласт — наиболее интересна, потому что она наиболее достоверна. Такая музыка — маштоцевская, армянская духовная музыка — обладает универсальным свойством воздействия. Людей, безучастно ее прослушивающих, не существует. Она работает на тех уровнях, на которых современная музыка просто шанса не имеет работать.
— А разве здесь нет противоречия? Если «работает на сверхуровнях», стоит ли «замахиваться на Месропа нашего Маштоца»?
— Конечно, это те сокровища, к которым нельзя прикасаться просто так. Не нечто вон там лежащее, к чему можно подойти и что-то такое там сделать. Во всяком случае у меня было очень трепетное отношение, заставляющее себя сдерживать. Хотя в свое время исполнял эти шараканы, когда еще пел в хоре «Нарек». Но в недавний период возникли сотрудничество с Асмик Багдасарян и мысль создать очень широкую палитру — от каждого века по одному шаракану. Мы записали весь материал — 15 шараканов, каждый из которых иллюстрирует очередную ступень духовного развития, а потом Асмик предложила дописать Маштоца. Сначала идея отошла на какой-то тридцать третий план, а потом я вдруг спонтанно сконцентрировался на этом. Как-то занесло в V век. А сейчас оформилась цельная концепция. Мы имеем дело с тем, что является базисным, очень дорогим и очень важным. Не только для меня — для слушателей, для всех нас. Потому что такие примеры — примеры, к которым нет вопросов, которые по ту сторону каких-то оценок, качественных категорий, они и есть основа нашего мироощущения. И через все, что нам сегодня мешает, что нас окружает, в первую очередь благодаря телевидению — через все эти наносные слои — не проглядеть бы вот этого. Это самое настоящее — то, что на самом деле должно нас питать. То, что обладает потенциалом очищения. Не знаю, как получилось у меня, но вообще, когда я слушаю эту музыку, ощущение благодати, которая исходит от нее, какое-то дыхание веков, глубины содержания — они очевидны.
— А прикасаясь к такой глыбе, нет внутреннего сомнения? Или опасения, что взвоют специалисты или прогневается церковь?
— Естественно, есть. Больше, чем я сам себя ем, никто меня съесть не сможет. Есть люди, которые занимаются этой сферой, но их не слишком много, и мы настолько тепло относимся друг к другу, что каких-то потрясений я не ожидаю. Можно только пожалеть, что людей, способных выразить адекватное, а главное, компетентное отношение, так мало. Я имею в виду музыковедческий разговор. Ну а церковь — это же ресурс церкви! Эту проблему лет сто назад исчерпал Комитас. Мы точно не находимся в ситуации каких-то инквизиторских проявлений, потому что все, кто приобщен к этой музыке, прекрасно понимают, что любые формы популяризации на этом этапе хороши. Ну и потом, я же не увожу слушателя, наоборот, стараюсь таким способом его ориентировать.
— Разве реально в наших условиях такую музыку популяризировать?
— Это я знаю не абстрактно. У нас уже есть изданная литургия, которой уже нет, весь тираж кончился. Или ассирийская музыка — даже продажи в Ереване не было, все ушло за границу.
— Ладно ассирийская музыка. Но своя, корневая, должна иметь свой же рынок!
— Рынка нет. Я даже думаю, что реальный интерес на Западе будет больший и более компетентный и грамотный, чем в нашем отечестве. Мы находимся в ситуации, когда наша духовная культура стала достоянием очень небольшого круга людей, которые понимают ее безоговорочный приоритет. И это не их проблема — это проблема того большинства, которое не в курсе. Потому что сказать, что процессы, которые идут в области искусства, приторможены-заторможены, — нет! Даже в самые тяжелые годы, те, кто преданно занимался музыкой, живописью, театром, снимал кино, они свое дело делали. Процесс прервать невозможно. Вопрос в том, сопричастна ли к нему публика. Аудитории все меньше и меньше, ее скоро вообще не будет. Ситуация давно меня не удивляет. Но это же не значит, что надо все бросить, прекратить и не делать.
— Здесь, как правило, следует лягнуть вездесущее и всепоганящее телевидение…
— Мне кажется, телевидение «воспитывает» там, где нет семейного воспитания. Но представить, что это девяносто процентов нации, я не могу. Проблема не в телевидении — проблема в безкультурных семьях. Проблема в том, что в этих семьях детям никто не объясняет, что где лежит. Нет разговора о культурных приоритетах.
— А тебе не кажется, что, если каждый, способный о них говорить запрется анахоретом в своей студии, все разговоры вообще кончатся?
— А в какой форме существовала армянская творческая интеллигенция? Давай отсчитывать от середины XIX века, когда пошел просветительский бум: Константинополь, Тифлис. Интеллигенция была примерно в том же статусе. Она сформулировала какую-то стратегию, которая нашла свое воплощение в национальной школе, — какие-то гимназии и т.д., начали издаваться газеты-журналы, которые пропагандировали современную литературу, и возник армянский театр. Этой традиции от силы 160-170 лет. То есть творческий человек своего места в армянском обществе еще не определил. Вернее, общество не определило его места и своего отношения к нему. Что такое артист в армянском обществе? Мы вернулись на исходную позицию. Была очень небольшая группа людей, которая занималась культурой и искусством, и такая же небольшая группа их финансировала. Музыковедческая традиция на Западе имеет за плечами несколько столетий, и это не один человек, это когорта, это поколения, которые занимаются музыкальным анализом и описанием музыки. А Комитас в 1910 году говорит, что его одной жизни на все точно не хватит. Еще говорит, что некому руку пожать, что нет человека, который бы разделил с ним это бремя. Так что, с одной стороны, одной жизни может не хватить, а с другой, слава богу, XXI век, компьютер, техника, которая освобождает от огромного количества зависимостей. Например, получить то звучание, которое ты слышала, через привлечение живых исполнителей — в Армении я бы этого не добился. Потому что в Армении четыре валторны играть вместе не фальшиво не могут. И целый ряд других проблем. Почему я так фокусируюсь на этом? Не было бы этой технической возможности, не было бы подходов, которые обуславливают мою творческую свободу. Благодаря работе над Маштоцем я привел в порядок абсолютно все — от образа мыслей и чисто психологического состояния до отношения к вещам. И думаю, это выход не только для меня.