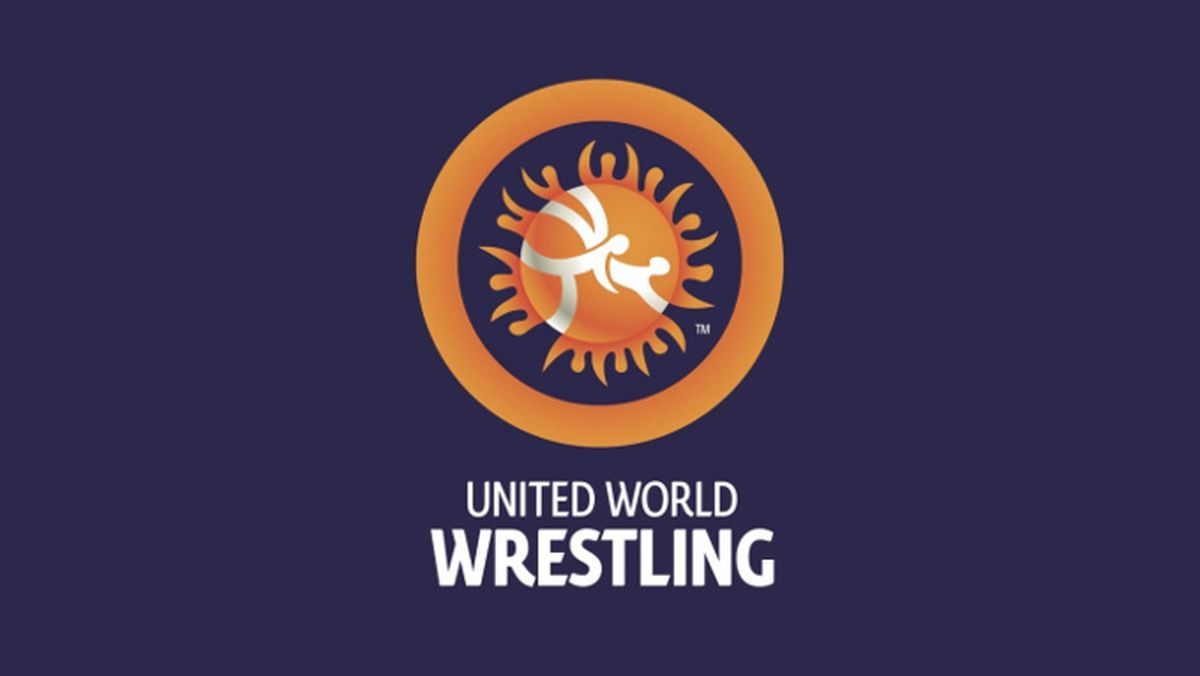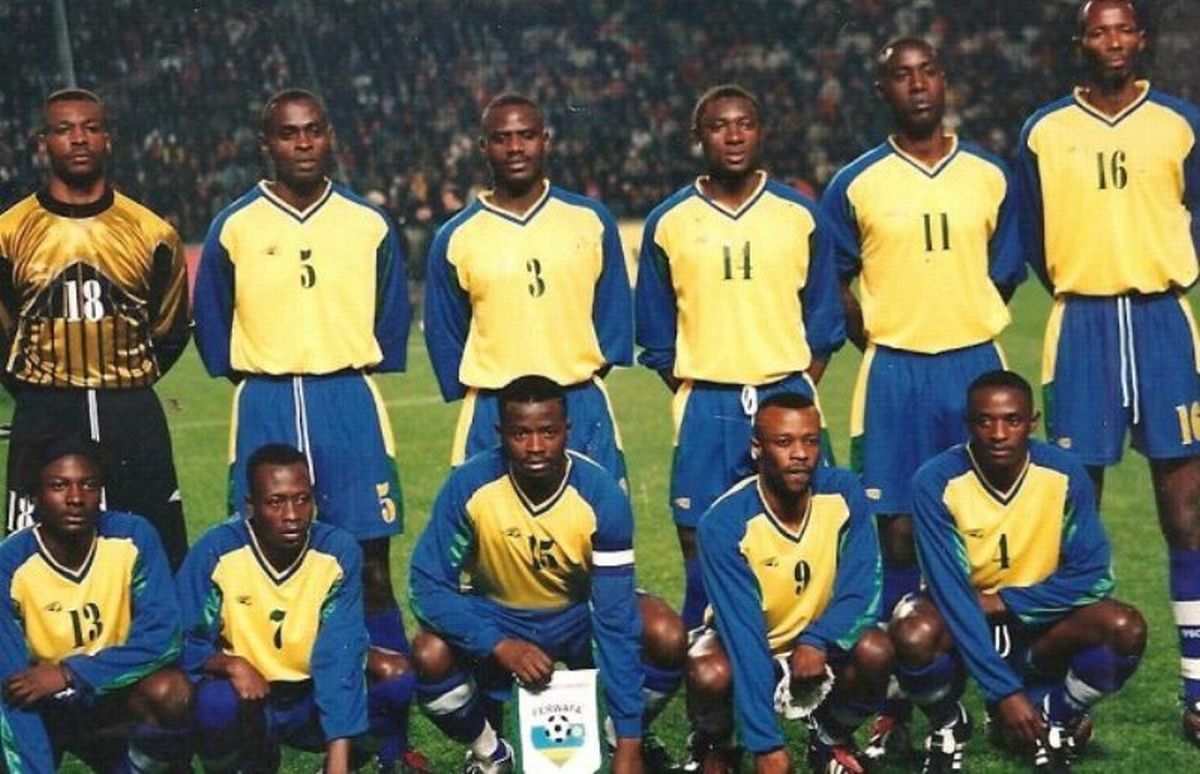Член-корреспондент Академии наук РА, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель науки Генрик ИОАННЕСЯН отмечает 75-летие.
"Древнейшая армянская мистериальная драма имеет тематическую общность с "мифом о вечном возвращении" — символизацией космического цикла. Очевидна связь с прометеевой тематикой…" — написано в одной из его книг. Произойдет ли оно, это вечное возвращение к духовным ценностям в драматургии нашей жизни, или человеку искусства и науки люди с Олимпа уже навсегда уготовили прометееву участь мученика?
— Господин Иоаннесян, нынешнее время принято считать эпохой культурных потерь. Есть ли, на ваш взгляд, на этом пути обретения?
— Самым главным обретением нашего времени я считаю свободу мышления. К сожалению, далеко не все испытывают в ней потребность. Иное дело свобода слова: кричи что хочешь, оскорбляй кого хочешь. А вот я всегда испытывал потребность думать свободно. За все предыдущие десятилетия из-под моего пера ни разу не выходило слово "советский" — я всегда знал, что это явление преходящее, не знал только, доживу ли до иных времен. Вот, дожил. Мы ведь даже представления о свободе не имели — рождались несвободными, как волк в клетке. Поэтому за последние двадцать лет я работал больше и написал более капитальные книги, чем за все предыдущие годы. Хотя, конечно, во многом они — результат трудов тех лет.
— Ваша последняя книга называется "Древнейшая драма в Армении". Вы считаете, что театр начинается с драматургии?
— Ни в коей мере. Театр — это присутствие личности на сцене. Личности в трех измерениях: присутствие в настоящем моменте с грузом прошлого за плечами и видением будущего. И если актер на сцене не существует в этих трех измерениях, значит, он мертв или пребывает в биологическом состоянии — без перехода в поле, где властвует разум. По образованию я не филолог, а актер, и этим обусловлено мое отношение к театру. В том числе и тем, что я ученик Армена Гулакяна, профессиональнейшего режиссера. Это не значит, что он был самым талантливым. Аджемян, скажем, был безгранично талантлив, но стихиен — человек импульсивного мышления. А у Гулакяна была система. Я его ученик во всех смыслах, кроме приверженности соцреализму, которому он, впрочем, лишь отдавал дань, создавая при этом высокохудожественные произведения. Я изучал все возможные театральные системы во главе с системой Станиславского, полагая, что это позволит мне играть лучше. А в действительности все наоборот — подробное знание отдаляет от сцены, вселяет сомнение. Гулакян как-то сказал мне: "Стремишься думать — это хорошо, а вот сомневаться нельзя". Но я продолжал сомневаться. С сомнения начинается наука. Хотя, окончив институт, я пошел не на сцену, а на радио и стал диктором. Мы читали никому ненужные тексты, но делали это, вырабатывая культуру интонации и слова…
— … которая сегодня утрачена, как и многое другое, а о смерти театра принято говорить с тайным наслаждением.
— У известного московского критика Марины Давыдовой есть заглавие "Конец театральной эпохи". Хорошо, что это написал не я — меня за такие слова вздернули бы на дыбе. Но эпоха действительно кончилась. Театр перестал был центром общественной жизни, средством общественной коммуникации. Из табели о рангах моральных ценностей исчезает живое человеческое общение. А когда живой человек перестает находиться в фокусе интереса, театр лихорадит. Театр XX века родился в маленьких залах больших городов. Это опять же акт социального поведения, общественного контакта, который имел место быть и который больше не происходит. В наше время — какое оно, "наше время", наверное, конец 50-х — начало 60-х — спектакль шел с тремя антрактами. И люди выходили в фойе, разговаривали, обсуждали спектакль и жизнь. Театр был центром общения и приобщения, здесь вырабатывалась неофициальная общественная мысль. Сегодня театр потерял свои внехудожественные функции. Но театр — не лирическая поэзия: он крепко стоит на общественных реалиях, и когда социальная почва под ногами рушится, театр не может устоять. Нынешние проблемы театра не в нем самом — рушится его социальная почва. И совершенно не случаен сегодня расцвет мещанской мелодрамы в виде телесериалов. Мещанство расцветает в жизни, и оно вышло на телеэкран, правда, пока минуя театр. И на экране решаются задачи, которые на сцене еще не решены. Порой в тех же сериалах я вижу тонкие нюансы, паузы, психологический второй план — вещи, над которыми мы в студенческие годы подолгу мучились. Знаете почему? Мы были несвободны, а несвобода касается не только политической жизни — ты несвободен в быту, в чувствах и в их проявлениях. Новое поколение дает прекрасных актеров.
— Признаться, странно слышать. Люди театра — практики — утверждают обратное.
— Я говорю не о сцене. Сегодня другая, нетеатральная эпоха. Театр вошел в иной канал, и здесь решаются какие-то вопросы, но… Знаете, что интересно. Эти актеры из сериалов не имеют представления о системе Станиславского, но играют именно по ней. Ими можно иллюстрировать и объяснять систему, но их работа не становится искусством, не обретает художественной ценности. Это как анатомический этюд у художника, лишь первый шаг, который наша молодежь блестяще освоила, — многими я восхищаюсь. Проблема в том, что они прекрасно существуют в бытовых ситуациях. Но дай им добротный литературный текст — и они собьются. Чтобы донести такой текст, требуется культура, общая культура. Армен Гулакян говорил нам: "Если вы неначитанны, никакие уроки сценической речи вам не помогут".
— В свое время кино не удалось убить театр. Бытует мнение, что во власти компьютера уничтожить и книгу, и театр, и кино, а заодно и культуру. Вы разделяете такую точку зрения?
— Что касается театра — публичное присутствие личности поставлено под сомнение, и неизвестно, в дальнейшем насколько живое присутствие человека будет вызывать интерес. В свое время мы выходили на улицу Абовяна, встречались, обменивались приветствиями, что-то обсуждали. Сейчас этого нет. Люди на улице перевелись? Нет, их больше, чем прежде. Но они представлены своими автомашинами, их номерными знаками и сигналами — человек отсутствует. Когда-то мы жили на улице Теряна — рядом Театральный институт, консерватория и Дом актера. Вагаршян, Микаел Тавризян, Айкануш Даниелян, Анушаван Тер-Гевондян, навстречу мог выйти Исаакян — эти люди ходили по городу, и мы их видели. Человек, личность имели ценность. В свое время я пошел в Театральный, потому что университет бледнел на его фоне благодаря людям, которые там преподавали. И мы, студенты, старались подражать им, отличаться от остальных — их присутствие подтягивало. Сегодня педагоги орут на студентов, а с Вагаршем Вагаршяном, первым нашим народным артистом СССР, надо было успеть поздороваться первым — иначе он отвешивал поклон первокурснику.
— В такой невеселой ситуации у вас не возникает желания сказать молодым людям, которые приходят защищать диссертации по искусству: "Не тратьте зря времени"? Или все-таки какая-то перспектива видится?
— Очень хочется ее видеть, но против этого делается все возможное. Не против искусствоведения — против науки. Двадцать лет мы живем в независимой стране, и двадцать лет в этой стране поносят Академию наук. В академии самые низкие зарплаты. Это только объявляют, что средняя зарплата — 60 тысяч. Недавно на собрании, когда это вновь повторили, кто-то из академиков с места сказал: "Тогда почему же моя высокая зарплата — 50 тысяч?" Знаете что интересно? Несмотря ни на что, все эти 20 лет академия существует. Наука — не средство заработать, а образ жизни. И надо быть готовым к тому, что тебя ставят в унизительное положение, дают грошовую зарплату и разговаривают в таком тоне, словно ты в чем-то виноват, словно ты паразит-захребетник. Вот я, один из таких паразитов, на свои средства издал книгу "История армянского театра XIX века". Двадцать семь экземпляров ее продалось через книжный магазин, и я считаю это большим достижением. Две предыдущие работы я также издал сам. Были, правда, две книги по госзаказу, а вообще, сам пишу, сам издаю, сам дарю — видите, какой захребетник! Но этого не должно быть! Этого не происходит нигде в мире! Словно преднамеренно нас ставят в такое положение, чтобы это учреждение исчезло. Сказал же кто-то из наших госмужей — не трогайте академию, она умрет естественной смертью. За двадцать лет число сотрудников сократилось наполовину. Хотя я в этом ничего плохого не вижу — остаются те, кто не может не остаться. И работника научного института я считаю самым высоконравственным человеком в нашей действительности. Свои книги я могу писать и дома — наше присутствие здесь имеет сугубо нравственное значение. Двадцать лет разрушают, а академия все стоит. Видите, в каком состоянии здание? С 72-го года впервые делают ремонт. На каждом собрании говорится о том, что нашей зарплаты не хватает даже на коммунальные выплаты. И как прикажете в таких условиях видеть перспективу? Возникает ощущение, что нас пытаются уничтожить как социальный класс.
— Вас это удивляет? Ведь единственным критерием права на существование сегодня считается "доходность предприятия".
— Да, кивают на рынок. А кто сказал, что научная продукция — рыночный товар? Разве у квантовой физики или теоретической механики есть точка сиюминутного приложения? Какие деньги может принести история Армении, над которой работают в соответствующем институте?
— А число молодых, желающих получить ученую степень по искусству, по сравнению с прошлыми десятилетиями сильно сократилось?
— Приходят молодые, защищаются — и никто из них здесь, в институте, не остается. Зарплата кандидата наук — 30 тысяч. Макс Вебер говорил о том, что это художник, артист, могут творить в уверенности, что никто доселе и в будущем ничего подобного не создаст. Человек науки думает иначе: был кто-то до меня, чье дело я продолжил, и я должен видеть того, кто продолжит меня — продолжит и превзойдет. Быть превзойденным не только наша судьба, но и наша цель. Я не говорю о десятках людей, готовых подхватить нашу эстафету, но один-два человека просто обязаны быть. Но они не могут здесь работать. В советское время это так или иначе было возможно. А работать, когда не видишь того, кто придет после тебя, очень трудно.
— Ваш прогноз как ученого: сколько еще времени будет продолжаться такой упадок — научный, театральный, культурный, вектор которого стремится к полному обнулению?
— Мы переживаем момент великого перелома и даже не осознаем, что происходит. Античный мир разрушался на протяжении трехсот лет, и отзвуки этого разрушения еще через пятьсот лет раздавались в Византии. Древняя Греция, эллинизм, Рим — они ушли в небытие, и только через тысячу лет, в Средние века, их извлекли из праха на свет божий. Мир изменился, христианская Европа стала моноконцептуальной. Все мировосприятие, весь быт — все полностью перестроилось. Изменился театр. Всех героев трагедии заменила одна единственная жертва — Христос. Центром жизни стала церковь, и все трагедии заменила месса, или патараг. Месса — это античная трагедия, подвергшаяся метаморфозам до неузнаваемости. Дальше история театра исчисляется с позднего Средневековья, с Шекспира. И это уже абсолютно иные категории. Тематические переклички в счет не идут — они пришли из литературы… Сейчас мы в начале такого вот процесса. Традиционные для нас институты — театральные и прочее — они умирают. Что придет им на смену? Не знаю. Несомненно одно — оно будет обусловлено техническим прогрессом. Будет рождаться нечто с совершенно иной литературной проекцией, на ином драматургическом материале.