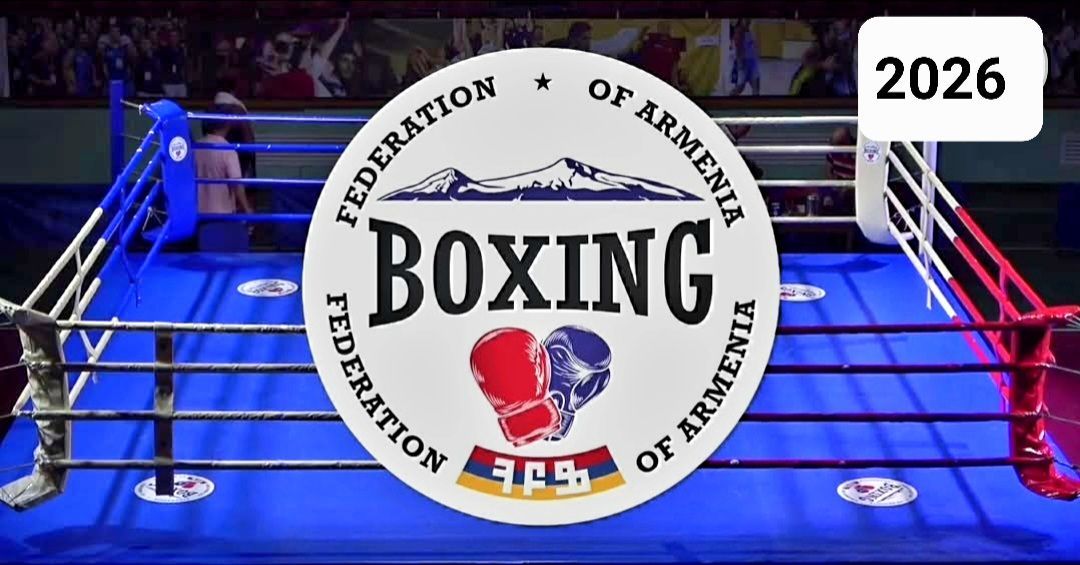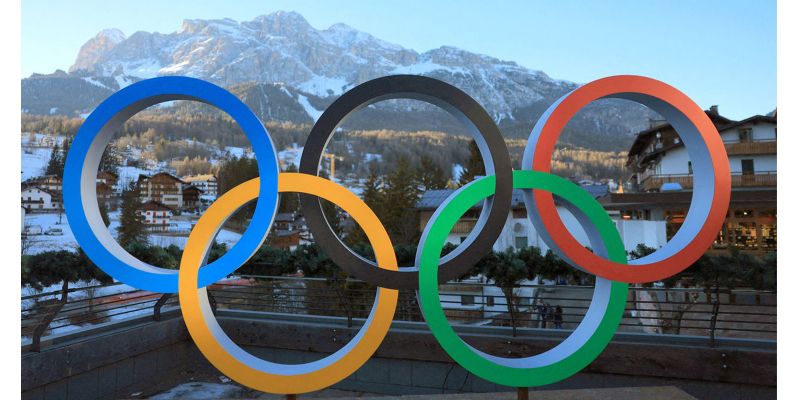Молодые армянские режиссеры уже шестой год являются бессменными участниками летней школы-лаборатории, проходящей в рамках Московского международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова. Причем в Москве уже привыкли, что на фоне одного-двух представителей из остальных стран СНГ армяне приезжают чуть ли не делегацией. И дело тут не в "особенностях национальной охоты". Невероятно, но очевидно – после долгого, порожденного постреволюционным временем вакуума наша театральная режиссура неожиданно зацвела буйным цветом.
НЫНЕШНИЙ, ВЫЕХАВШИЙ В ТЕАТРАЛЬНУЮ МЕККУ НА МАСТЕР-КЛАССЫ ДЕСАНТ не в пример прошлым годам был меньше в количественном плане – всего три человека, зато отменного качества. Шушан Геворкян весной удостоилась награды "Артавазд" за постановку спектакля "Арегназан". Спектакль Гора Маргаряна "Люсьен Люк" можно с полным правом назвать явлением прошлого сезона: на моноспектакль — формат, далекий от масскультных радостей, – валит зритель. Воодушевилась не только пресса, но и приехавшие на последний ARMMONO зарубежные специалисты, и спектакль, кажется, получит приглашения на участие в фестивалях. Люсине Ернджакян, видимо, собралась обойти своего отца Ара Ернджакяна – билеты на ее постановки в Камерном приобретаются исключительно по предварительному заказу.
Режиссеры, призванные открывать молодым коллегам тайны профессии, в спецпрезентациях не нуждаются. Марк Захаров, Сергей Женовач, Кама Гинкас, Дмитрий Крымов, добавим к ним театрального художника Сергея Бархина – люди, выплеснувшие на сцену свое сокровенное и ставшие навсегда творцами. Многочасовое общение с мэтрами плюс ежедневные просмотры спектаклей Чеховского фестиваля и репертуарных московских театров – таков график работы летней лаборатории.
"Мне казалось, я еду, чтобы увидеть и открыть для себя что-то новое и неизведанное. А поначалу показалось: все, о чем говорилось, нам как бы известно, нас этому учили в институте. Потом понимаешь, что главное — новые трактовки известных вещей, неожиданные ракурсы. Дмитрий Крымов, например, удивился, когда я спросил, по какой системе он работает. "Нет у меня никакой системы. Мне кажется, и Станиславский написал свою систему исключительно для себя". Как ни крути, талант и самобытность мироощущения на театре еще никто не отменял", — считает Гор Маргарян. Так или иначе, теория, выходит, на всех одна, и тогда возникает неизбежный вопрос: почему в общем театральном потоке наши спектакли так сильно отличаются от их, и, увы, не в лучшую сторону?
"КОНЕЧНО, ОДНОГО ВЛАДЕНИЯ РЕМЕСЛОМ НЕДОСТАТОЧНО, ведь каждый художник привносит в знакомую пьесу что-то свое, и от этого "своего" зависит неповторимость спектакля. Но мне кажется, что здесь еще большую роль играют финансы. Сегодня трудно представить успешный спектакль, если он не привлекает зрителя визуально. Западные спектакли, которые нам довелось увидеть в рамках фестиваля, вообще строились исключительно на визуальных эффектах. Если бы у нас были хотя бы в десятую долю такие финансовые возможности и с учетом того, что армянский театр все еще сохраняет душу, думаю, картина у нас была бы иная", — считает Шушан Геворкян.
"Конечно, многое идет и от денег, — подхватывает Люсине Ернджакян. – Режиссеры, которые с нами работали, вообще не приемлют никакого ограничения воображения. Но какой постановщик у нас может позволить себе на спектакле разбить вдребезги десятки квадратных метров стекла в уверенности, что завтра все станет на места и повторится снова? Мы же заранее знаем свои скромные финансово-технические возможности, а это страшный подсознательный цензор для фантазии. Эти встречи действительно заставляют многое пересмотреть. Вот я, например, явно недооценивала работу режиссера с художником. А там концепция художника чуть ли не основа спектакля. Если он хочет пронзительно алый задник и миллион синих роз, режиссер начинает исходить из этого. Есть над чем задуматься".
На вопрос, что же впечатлило больше всего, Шушан ответила: "В московской театральной жизни присутствует то, что, говорят, когда-то было и у нас, да вышло – отношение к театру. Отношение и профессионалов, и зрителей. Никого не хочу обижать, в конце концов, я только вошла в профессию, но у меня уже сложилось впечатление, что половина наших людей театра "ходит на работу", как на любую другую. Я задавала всем ведущим мастер-классы режиссерам наш классический вопрос – нужен ли кому-то театр? И эти многомудрые люди его не понимали. Они именно занимаются творчеством, ни на что не оглядываясь. Женовач, тот все время призывал нас ошибаться, за исключением первого спектакля – его провалить нельзя".
"МНЕ КАЖЕТСЯ, САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЭТИХ ЗАНЯТИЯХ даже не возможность общения с людьми, контакт с которыми как бы обогащает сам по себе, а атмосфера, которая при этом возникает. Она была именно такой, какую они призывали создавать при работе над спектаклем – единый дух соратников и сорадователей. Я просто уверена, все, что по возвращении во мне рефлексирует, станет импульсом к какой-нибудь идее", — считает Люсине. И Гор Маргарян с ней соглашается: "Такие лаборатории действуют на подсознание. Такое воодушевление, такой импульс делать что-то новое! И проводить параллели и сравнения со своей страной не мешает. Я несколько раз подолгу общался с ребятами из других бывших республик. Они сильно удивлялись не только тому, что мы пока не стремимся ставить "Гамлета", но и тому, что наши мэтры позволяют нам делать самостоятельные работы на профессиональных сценах, что мы уже успели поставить по два-три спектакля. Ведь у нас сегодня даже есть альтернатива – в каком театре делать постановку. У них же с этим явно серьезные проблемы. Хотя бы потому, что школа эта для режиссеров, а приехали, за исключением Украины и Грузии, молодые актеры, режиссеров просто нет. Так что, если не равняться на Москву, у нас в принципе все не так уж плохо".
Судя по свидетельствам очевидцев, самое большое впечатление на них произвели спектакли Дмитрия Крымова, кстати, сына великого Эфроса. Его постановки иначе как "потрясением, шоком и открытием" молодые режиссеры не называли. Как педагог же в желтой майке лидера оказался профессор школы-студии МХАТ, худрук Московского театра юного зрителя Кама Гинкас. Кстати, каждую весну Гинкас собирает свою персональную лабораторию, и наши воодушевленные молодые режиссеры уже завязали необходимый контакт, чтобы туда попасть. Есть, правда, проблема дорожных расходов, но будем надеяться, что деньги на благое дело найдутся.