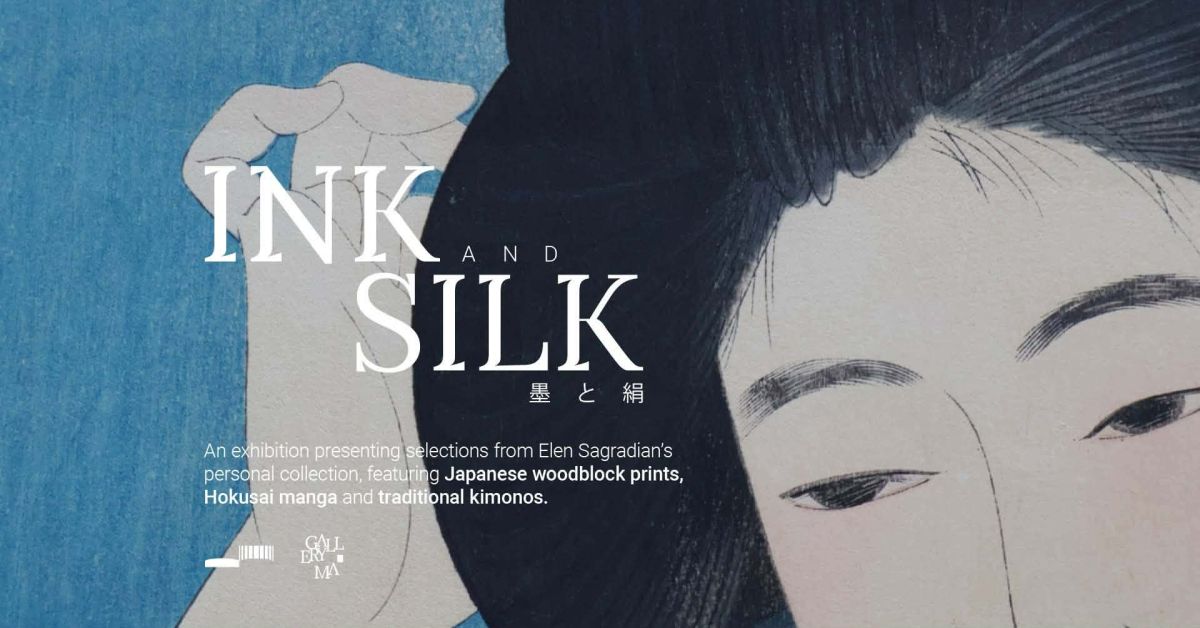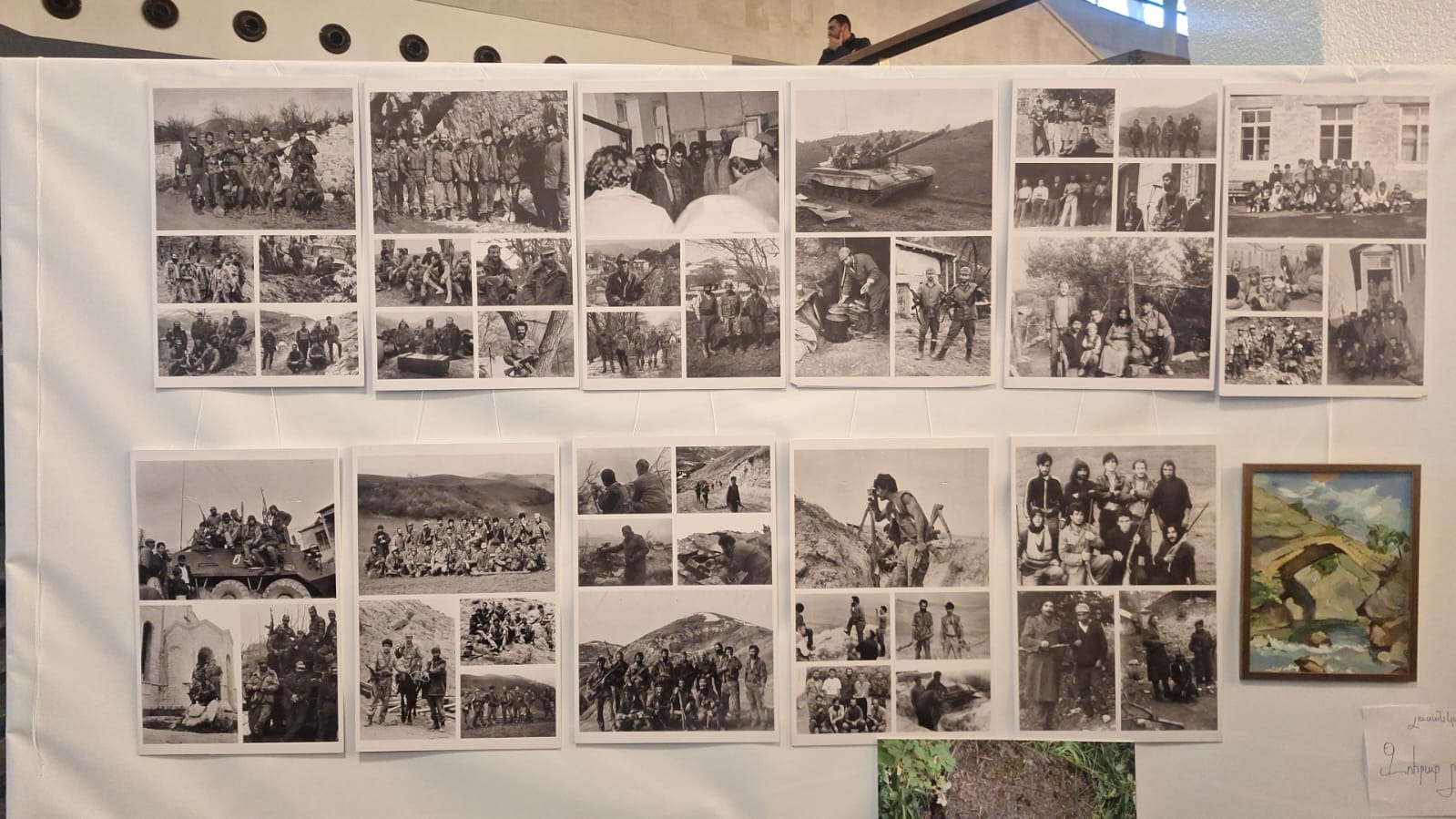В столице Грузии состоялась выставка
тбилисского армянского художника Гарегина Мирзоева. В экспозицию вошли
живописные работы, а керамика была представлена лишь фотографиями. Но я
побывала в квартире художника, расположенной в старом тбилисском дворике на
такой же старой — можно даже сказать исторической — улице, названной
Ортачальской, в честь самой местности. Там и увидела его работы в ретроспективе
— с начала 60-х годов до наших дней. Говорят, что художники так или иначе
похожи на свои произведения. Работы Мирзоева независимо от того, живопись это,
графика, керамика или скульптура, как и сам художник, генерируют тепло. Более
того, им, как и этому мягкому, деликатному, застенчивому человеку, присуща не
сразу улавливаемая самоирония.

РОДИЛСЯ ГАРЕГИН В 1935 ГОДУ В СЕМЬЕ
ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА ГРУЗИИ ГРИГОРИЯ МИРЗОЕВА, стоявшего у истоков создания творческого Союза
грузинских художников. Одна из реликвий семьи — фотография, на которой Григорий
Иосифович запечатлен рядом с Мартиросом Сарьяном. Творческие корни семьи еще
глубже: дед Иосиф Мирзоев — известный инженер, был членом городской управы
Тифлиса еще во времена Российской империи. О доме его упоминает в своей книге
Николай Гумилев, сообщая, что отец его Степан Яковлевич Гумилев, приехав в
Тифлис, остановился в доме инженера Иосифа Мирзоева в Сололаки, на Сергеевской
улице. «Комфортабельная квартира с печами, отделанными изразцом, с
двойными оконными рамами, с редким в Тифлисе электрическим освещением и со
всеми прочими удобствами находилась в каменном роскошном доме. Дом был угловым
и выходил на две живописные зеленые улицы. Два подъезда дома обслуживались
двумя швейцарами».
Нынешняя
квартира Гарегина Мирзоева ничем не похожа на апартаменты деда, она не велика,
не роскошна, и только созданные художником картины, барельефы, скульптуры,
керамика наделяют ее красотой. С детства находившийся в творческой атмосфере,
впитавший запахи и краски мастерской отца, Гарегин никогда не помышлял о другой
жизни. Он мечтал стать художником, хотя, как оказалось, с распростертыми
объятиями в Тбилисской академии художеств его никто не ждал. Тройка по истории
пересилила выполненные на отлично творческие задания. Поступил лишь со второй
попытки, и то на факультет керамики, рассчитывая затем перейти на живопись. Но
так увлекся, что менять ничего не стал. Академию закончил с отличием, однако не
так важна эта официальная оценка, как то, что молодой художник одним из первых
начал работать в новой технике «лощения» и «копчения»
простого глиняного черепка.
Несколько
работ той поры и сегодня находятся в квартире художника. Удивительно грациозные
точеные черные фигурки. Тончайший кофейный фарфоровый сервиз и внушительный
сервиз для вина и фруктов, выполненный в технике чернолощенной глины. А еще
декоративные скульптуры: Дон Кихот и Санчо Пансо, Кахетинец, Пьяные старички и
целый ряд других, очень живых и ярких персонажей. На стенах барельефы. В основе
их стилизованные фигуры людей, животных. Для автора главное — пластичность
самих изделий, игра контурных линий, в целом образующих изображения. Эту
особенность творческого почерка можно проследить в таких объемных работах, как
«Цирк», «Голубое ртвели»…
Говорит,
что переломным моментом стала для него поездка в Дом творчества в Дзинтари.
Общение с керамистами из разных стран и городов, знакомство с различными
техническими материалами современной декоративной керамики отточили его
творческие приемы, дали новую почву творческим устремлениям. В его керамических
композициях невозможно что-то убрать и сдвинуть, настолько сопряжены все линии.

С НАЧАЛА 90-х ГАРЕГИН ГРИГОРЬЕВИЧ УЖЕ
НЕ РАБОТАЕТ В КЕРАМИКЕ (нет огня,
необходимого для обжига глины), но уделяет много внимания живописи. Эти картины
также необычны, как и все, что он делает. Любимый жанр — пейзаж, много этюдов и
композиций посвящено Тбилисскому ботаническому саду, который он исходил вдоль и
поперек, знает каждый уголок: «Роща Ботанического сада», «Сад
под дождем», «Иудино дерево», «Красные листья»… Он
бывает там ежедневно и зимой, и летом и даже не платит за вход — охранники
пропускают его как певца Ботанического сада. Работает Гарегин Григорьевич в
технике масляной живописи, гуаши и мозаики.
«Крыши
старого Тбилиси», «Наш двор», «Портрет отца» выполнены
в мозаике. «Русские березки» сделаны гуашью. Серия этюдов
«Старый Тбилиси», букет полевых цветов, натюрморт под названием
«Перец», еще один, с сыром и хлебом, написаны маслом. Но в какой бы
технике ни работал Мирзоев, все картины свидетельствуют о его понимании души
природы, ее переменчивости. «В пейзаже я искал и находил самого себя, смог
больше раскрыть близкие мне чувства. В природе я нахожу настроения, состояния,
волнующие меня… Это помогало мне уйти от ложных тематических картин… Я
всегда писал и пишу то, что люблю». Творческий темперамент Мирзоева ощутим
даже в его первой картине «Сирень», написанной еще в пору юности, в
1952 году.
Одна
из последних работ — натюрморт со старой, видавшей виды керосиновой лампой. Он
же — автопортрет художника. Такая вот грустная и ироничная исповедь.
«Сейчас, — говорит художник, — чувствую, что свою программу выполнил.
Работаю в основном на дощечках, выпиливаю, обрабатываю, пишу на них пейзажи,
натюрморты, сценки из жизни Тифлиса, а потом сдаю в сувенирный магазин.
Говорят, они хорошо раскупаются иностранцами. Конечно, я стараюсь подойти к
каждой работе творчески, технику придумал собственную — работаю мозаичным
принципом. Если что-то не понравилось, переписываю. На каждой такой дощечке
стоит мое имя, и я не имею права снижать уровень. Воспитание обязывает».
Эти
маленькие декоративные работы действительно красивы, а золотое небо придает им
элемент сказочности. И еще они помогают художнику выжить в прямом смысле этого
слова. Пенсия, назначенная за годы работы в «Продоформлении», где он
занимался наглядной агитацией, писал плакаты, невелика, а родных у него нет.
Семьей он так и не обзавелся, многие годы ухаживал за тяжело болевшей сестрой,
а потом из жизни ушла и она.
Гарегин
Мирзоев никогда не вписывался в какую-то определенную графу. Для него было и
остается главным само искусство. Такое искусство, которое использует приемы и
керамики, и скульптуры, и живописи, и графики, а нередко и карикатуры. Он был
по жизни искателем, всегда стремясь отыскать новую, более высокую ступень,
чтобы поднять на нее свое искусство. Персональная
выставка Мирзоева — члена уже канувшего в Лету Союза художников СССР, проходила
в «Айартуне» — культурном центре армянской епархии Грузии. Это была
далеко не первая выставка в его жизни, он участвовал в них с 1962 года, всегда
показывая нечто для себя новое. Так было и в этот раз.