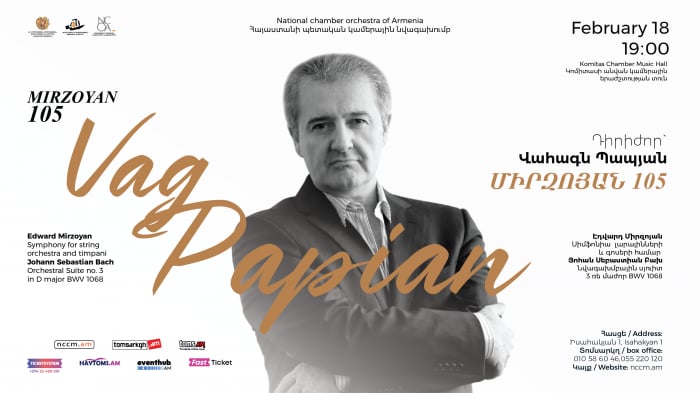Личность и творчество Ерванда Кочара на
протяжении всей его жизни вызывали дискуссию и яростные споры. Его нарекали
гением и мистификатором. Но что было делать советским идеологам, если он ни
одной гранью своего творчества не вписывался в «соцреализм», как мы
его понимали. Его творчество с первых же работ стало загадкой. Кочара называли
формалистом, не прощая ему его свободы, его права жить в соответствии с
законами собственного творчества.
Он был популярен как личность, знаменит
как художник. Творения свободного художественного языка — черта, присущая
минувшему веку, и Кочар в этом отношении маэстро XX века. С этой чертой он
родился. Биографы рассказывают, что Кочар был вундеркиндом: рисовать и держать
в руках резец он научился раньше, чем ходить и говорить.

ОН С САМОГО НАЧАЛА ПОРАЗИЛ РАЗМАХОМ,
ЯРКОСТЬЮ И СВЕЖЕСТЬЮ НОВИЗНЫ. Ему
предназначено было открыть в армянском искусстве новую эпоху, создать мир новых
художественных образов. Он был одним из самых ярких и значительных
представителей армянской культуры, воплощением пытливой мысли, свободного духа,
светлых устремлений. Его жизни сопутствовала ранняя слава художника
«магеллановой крови», открывателя новых земель.
Где,
когда, у кого он учился и кто мог научить его той несравненной одухотворенности
линии, которая творит музыку иллюстрации к произведениям классиков армянской
литературы? Большую роль в формировании художника сыграла атмосфера начала
нового века — периода стремительного взлета музыки, театра, живописи, поэзии,
времени активных дерзких экспериментов. В те далекие годы в искусстве
закладывались основы многих последующих открытий и новаторства. Это была эпоха
людей активных, деятельных, воображением и руками которых творилась
художественная жизнь страны. А.Таманян, М.Сарьян, А.Исаакян, А.Коджоян,
А.Хачатурян — ими обозначены новые вехи в искусстве Армении.
Родился
Ерванд Кочар в Тбилиси. Ереван он увидел только в 1936 году. С будущим
архитектором К.Алабяном поехал в Москву, где учился у П.Кончаловского. В 20 лет
он открыл свою выставку. Спустя два года он уехал за границу. 15 лет,
проведенные в Италии и Франции, не прошли даром. Эти годы сделали его видение
острее, упорядоченнее. Изо дня в день он упорно работал. Огромный труд,
изучение классиков и наблюдения дали возможность пробить путь к вершине — путь
к себе.
Обрести
собственное лицо в такой стране, как Франция, было нелегко. Кто сегодня не
знает миф о Париже начала XX века. Само это явление коллективной гениальности
было интернационально, индивидуалистично и ярко так, что до сих пор в мире
светло, когда произносятся те имена. Какие имена!! Какие звуки! Гийом
Аполлинер, Анри Матисс, Макс Жакоб…
Не
написана еще история великой самоотверженности, труда и артистичности пестрой
карнавальной Богемы тех лет. Было холодно, голодно, безденежно. Но было и самое
главное: были внутренние связи, называемые «системными», т.е. связи
духовно творческих, а не профессионально-деловых интересов. Было бескорыстное
отношение к творчеству, которое никак невозможно создать ни лозунгами, ни
призывами, ни примерами из истории. Тогда именно там была точка свершений.
Богатые художественные традиции французской живописи, скульптуры и вдохновляли,
и подавляли молодых художников. Что мог противопоставить тогда еще неизвестный
Кочар таким авторитетам мировой живописи, как Матисс, Пикассо, Леже?
Оказывается, мог. Он стал основоположником нового жанра в искусстве —
пространственной живописи.

«ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЖИВОПИСЬ КОЧАРА
— НАИВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ XX ВЕКА, —
отмечал известный французский критик Вольдемар Жорж. — Она открывает перед
художниками и скульпторами новые пути. Это стоит на высоте века фантасмагории.
Настало время заплатить Кочару ту дань, на которую он имеет право».
Кочар
выставлялся с Пикассо, Матиссом, Кирико. Его имя упоминается рядом с именами
Брака, Леже, Люрса, Делоне. Его произведения украшают стены галерей многих
стран, в том числе Лувра, музеев Манчестера, Лондона. Но настал час, когда
путник, странствующий за своей мечтой, осознал страстное желание вернуться
домой… Решающим толчком послужили слова Чаренца: «Ты должен выситься в
Армении, как высится Эйфелева башня в Париже».
В
Армении в творчестве Кочара начался новый расцвет. Темп его творческой
активности до предела напряжен. Его неуемная кипучая фантазия не мирилась с
тем, что было уже сделано, его захватывали новые замыслы. Он создает ряд
блистательных работ, в которых каждый раз ставит новые задачи. В них он
сохраняет свою парадоксальность, ищет созвучные времени формы выражения.
Бесконечно живой в каждой своей картине, в новой скульптуре, Кочар искал
метафорический язык, адекватный бурному XX веку. Не случайно он любил повторять
слова Делакруа о том, что надо работать средствами, присущими эпохе, в которой
вы живете, иначе вас не поймут.
«Давид
Сасунский» Ерванда Кочара — символ Еревана, памятник на все времена,
символ бессмертия народа. Этим памятником он сразу и навсегда завоевал
всемирное признание. Одного этого было достаточно, чтобы имя создателя вошло в
число крупнейших художественных дарований эпохи.
—
В искусстве без препятствий не бывает, — говорил Кочар. — И чем они были
сильнее, тем скорее мне хотелось их преодолеть. Немало трудностей было и с
Давидом. Я долго вынашивал его образ и ждал, когда смогу создать его. И вот мне
как-то позвонили и предложили ваять его скульптуру. Было это в 1939 г., когда
решили отметить 1000-летие народного эпоса о Давиде Сасунском. Десять веков
было в запасе, а мне предложили, когда до юбилея оставалось полтора месяца…
Исполинской
силой веет от его Давида. Напряжение свело тело богатыря в гигантские узлы
мускулов. Это грозная сила народа воплотилась во всаднике. Поистине «он
прекрасен, он весь как божия гроза». Эпический образ воплощен с такой
оригинальной мощью, так поэтично, что, раз увидев его, невозможно забыть.
В
превосходной пластике воссоздан и Вардан Мамиконян. Издали памятник напоминает
летящую птицу, это летит конь Вардана, едва касаясь клубящейся пыли. Все четыре
копыта его в воздухе.

В МУЗЕЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В
ЕРЕВАНЕ ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ живописных
полотен Кочара — «Ужасы войны». Огромное панно написано невероятно
быстро. Образ картины был подобен пророческому откровению. В изображении ужасов
войны проявилось «новое» качество войны. Не война, но бессмысленная
жестокость, насилие, вседозволенность, развязывающая руки силам зла,
возведенная в принцип: «Я силен, значит, все в моей власти», —
тотальная безнравственность, ставшая традицией нашего мира. Изобразительный
язык картины — язык деформации, сверхэкспрессии. Разорвать спокойствие зрителя,
заставить напряженно мыслить. «Ужасы войны» — картина-предупреждение,
символ апокалипсиса цивилизации, протест против уничтожения культуры и
человечества.
Сейчас
смотреть в «зеркало» этого панно страшно. Великий художник — всегда
пророк. Художник XX века — пророк вдвойне. Он кричит и предупреждает, но его не
слышат, не понимают, не хотят знать. Великий трагический пророк и ясновидец
нашего времени был одновременно наивным юношей, влюбленным в жизнь, и
самоироничным наблюдателем.
Свое
неповторимое слово сказал Кочар и в области книжного оформления, и в
сценографии. Он любил театр, ему нравилось работать в его напряженной
изменчивой атмосфере, участвовать в создании новых образов в пространственном
решении спектакля, присутствовать при возникновении особого, непредвиденного
мира. Кочар удивлялся могуществу театра, его великой чудотворной магии и
преклонялся перед такими мастерами, как В.Аджемян, В.Папазян, Г.Нерсесян…
Он
был замечательным собеседником и на редкость точным в своей необузданной
образности. Маэстро (так любовно называли его) никогда не говорил менторским
тоном. К нему применимы слова Горького: «…в искусстве надо очень много
знать, чтобы иметь право осторожно советовать».
Кочар
не пропускал ни одного вернисажа. Особенно внимателен был к молодым
скульпторам. Сосредоточенно, молчаливо рассматривал их работы. Он заходил
сзади, обходил вокруг, смотрел сбоку, приседал и даже заглядывал снизу. Так мог
смотреть только мастер, сам владеющий высоким ремеслом, на работу другого
мастера. Такое внимание дается высокой культурой, напряжением ума и сердца.

ЕЩЕ ПРИ ЖИЗНИ ВОКРУГ КОЧАРА СТАЛА
СКЛАДЫВАТЬСЯ АТМОСФЕРА ЛЕГЕНДАРНОСТИ. Его
стремление окружать себя людьми, в особенности молодежью, восхищало всех.
Вокруг него толпились люди всех чинов и званий. И без чинов и без званий. Он
словно формировал вокруг себя климат. И все, как к магниту, устремлялись к
нему, становясь постоянной орбитой, потому что вокруг него был светлый уют
мудрости, нежной иронии, щедрости души. И было ощущение, что эти люди
становились талантливее от соприкосновения с ним. Каждый открывал в себе
какие-то удивительные новые качества, о которых даже не подозревал до общения с
этим неповторимым человеком. Изречения Кочара передавались из уст в уста. Так
действовал его талант, и в лучшие свои минуты Кочар было полон истинного
величия.
На
первый взгляд наиболее сосредоточенный и скрытый в себе, он внезапно озарял
собеседников поразительными по смелости парадоксальными замечаниями и так же
внезапно замолкал. Он говорил редко, но с убийственной точностью и
восхитительной образностью. Очевидно, именно это качество маэстро имел в виду
замечательный прозаик Рафаэль Арамян, заметивший однажды Кочару: «Если бы
Вы, маэстро, не были выдающимся скульптором и живописцем, из вас вышел бы
отличный писатель…» Но нам достаточно и того, что Ерванд Кочар
действительно был подлинным художником-новатором, которые рождаются, может
быть, раз в столетие.
Кочар
был одним из тех немногих людей, в присутствии которых жалеешь, что рядом нет
магнитофона. Почти каждое его слово таило в себе нечто яркое и полное смысла.
Какое-то время мне удавалось заносить в свой блокнотик некоторые мысли маэстро.
Но длилось это до тех пор, пока он это не заметил. Он рассвирепел не на шутку и
пригрозил, что, если подобное повторится еще раз, он пустит в ход свою трость.
А то, что это так и будет, у меня не оставалось сомнений. Бесконечно жаль, что
его устные рассказы, реплики, экспромтом возникавшие в беседе, остались лишь в
памяти слушавших. Какая это была бы умная книга!
Деликатный,
уступчивый маэстро был решительно неумолим с теми, кто вызывал в нем
раздражение. Однажды на выставке в Музее современного искусства я задержалась у
натюрморта известного художника и вдруг затылком ощутила его сверлящий стальной
взгляд.
—
Тебе нравится этот натюрморт? Посмотри, что за овощи! Они ведь ядовитые?
Коварство искусства в том, что в нем невозможно скрыть свою сущность! Все
«плавает» на поверхности…
Я
так растерялась от его натиска, что уже не понимаю, где у меня сердце, похоже,
где-то возле ушей, потому что там что-то колотится и гудит. Кочар слегка
наклонился и потому глядит на меня снизу, но глаз у него зоркий. Внимательный.
Он всматривается с любопытством — жадным, серьезным. Его суровый голос скрывает
иронию.
—
Вероятнее всего, тебе и этот образ нравится? — продолжает маэстро, и слова
скатываются с языка, отточенные и веские, как камешки с морского побережья. —
Что же тебе нравится в этом образе? Желтый — цвет осени? Зеленый — цвет весны
или вот этот ослик — символ вечности? — наступает он, подвергая меня
гипнотизирующему воздействию своих неумолимо суровых глаз, — разве ты не
чувствуешь, что образ ложный, что в нем есть слащавая красивость, что он
жеманный и в общем пошловатый?
Сегодня
я понимаю, что маэстро пытался мне внушить, что сила картины не только в ее
образной наглядности, но и главным образом в значительности мысли и глубине
переживания. Но тогда я искренне не понимала, чем вызвала его гнев: ведь я
молча рассматривала работы, не выражая ни восторга, ни особого интереса.
Сегодня,
вспоминая уроки Кочара, я выражаю благодарность своему кумиру, обогатившему мое
представление о неисчерпаемом и неистребимом мире под названием искусство.
КОЧАР УМЕР В ЯНВАРЕ 1979 ГОДА. О НЕМ
НАПИСАНО МНОЖЕСТВО исследований,
статей, воспоминаний. Но вот в чем парадокс. Когда Томас Манн, например, пишет
о Ницше, он не только владеет предметом, он пишет с равного уровня сознания,
т.е. с того же духовного и интеллектуального уровня. Сквозь Кочара прошли все
эпохи, все «измы», все поля нашего столетия, и осмысливать его творчество
следует из той же точки, в которой он находился сам. А это очень трудно. Так,
например, художественному сознанию Кочара свойственна как мифологическая, так и
остро историческая образность. Актуальнейшая идея оживает подчас через
архаическую мифологию, культурную историю. Сама пульсация «распада» и
«возрождения», память всего, что было, и готовность все начать с
начала ставит в тупик многопространственным мышлением.
Художественный опыт XX века сложен и
настойчиво требует от зрителей и читателей усилия для знания. «Я не ищу —
я нахожу», — говорил Кочар. Эти черты остались до конца одной из
характеристик психологии его творчества. Гений от рождения, великий труженик в
жизни. Человек перед лицом Совести. Таков Ерванд Кочар.