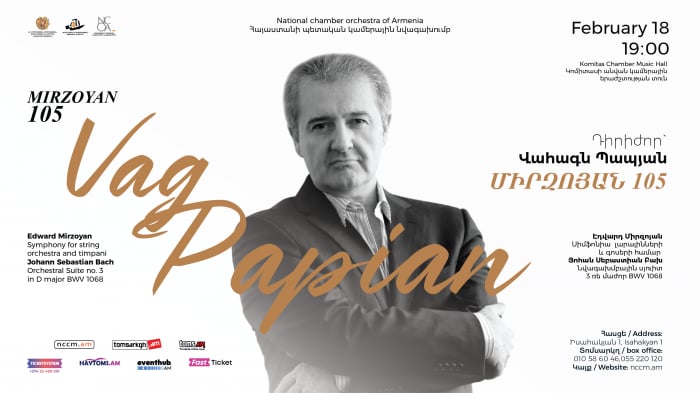22 июня — судьбоносная
дата в истории нашей страны: в этот день началась Великая Отечественная война. Тогда
еще никто не знал, какие нечеловеческие страдания придется испытать и какой
тяжелейший путь до Победы придется пройти советскому народу. Каждый вкладывал в
нее свои силы и возможности, в том числе старики, женщины и дети. Не последнюю
роль в Победе, приближая ее, сыграли и музы. Не случайно именно в те военные
годы были написаны эти строки: «Стихи шагают с нами в ногу, Ведут дорогами
побед, И каждый воин хоть немного В душе по-своему поэт».
МАЛО КТО ЗНАЕТ,
ЧТО В ДЕНЬ, КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА, КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕНКО — знаменитая эстрадная певица,
чьи песни звучали на передовой и в госпиталях, любимица простых солдат и
генералов, находилась на гастролях в Ереване. Ничего плохого те июньские дни не
предвещали. По воспоминаниям певицы, улицы солнечного, гостеприимного Еревана
пестрели афишами, извещавшими о концертах Ленгосэстрады. Настроение было
чудесное. Гастроли проходили отлично, все билеты проданы, публика принимала с
сердечной, поистине южной теплотой.
А между тем за день до начала войны предшественница
«Голоса Армении» — газета «Коммунист» писала:
«Лауреата Всесоюзного конкурса артистов эстрады К.Шульженко некоторые
ереванцы слышали со сцены и раньше. Другие ее знают по граммофонным пластинкам.
С большим чувством она исполнила песни «Моя тень», «О любви не
говори», «Песню креолки» и другие. Но особо высокого мастерства
достигает ее исполнение в песнях «Мама» и «Руки».
Во время репетиции, когда готовилось несколько новых
номеров в Летнем театре (в бывшем саду «Флора») и музыканты только
начали настраивать свои инструменты, вдруг на всю мощь раздался голос из
репродуктора. И в этот момент на сцену неожиданно вбежал директор театра. Именно
он дрожащим голосом и сообщил артистам о том, что страну настигло большое
несчастье — началась война.
С этого момента для всех присутствующих перевернулось
все, а через некоторое время было принято решение считать себя мобилизованными
и перейти в полное распоряжение военного командования. И хотя вечером очередной
ереванский концерт состоялся, артисты решили прервать гастроли, а администратор
раздал им билеты на ночной поезд.
Вот как в своих воспоминаниях об этом писала Шульженко:
«Я гримировалась перед концертом и вдруг подумала: а кому все это нужно?
Мысли мои были в Ленинграде, о войне, а война предстояла жестокая и не на один
день, это все понимали; о сыне, о том, что нас ждет впереди. Зал был неполным —
очевидно, не все зрители воспользовались своими билетами. В саду не горели
фонари, город был затемнен по условиям военного времени. Я пела, и смысл
знакомых слов ускользал от меня, делался неуловимым. Конечно, зрители не
чувствовали этого — профессиональный актер должен делать свое дело вне
зависимости от того, в каком настроении он находится. Но пела, и мне казалось,
что «Креолка» и «Моя тень» — уже вчерашний день. И только
когда начала «Руки», любимую песню, подаренную мне Василием
Ивановичем Лебедевым-Кумачом: «Нет, не глаза твои я вспоминаю в час разлуки,
Не голос твой услышу в тишине, Я вспоминаю ласковые, трепетные руки, И о тебе
они напомнят мне… » — слезы вдруг подступили к глазам и перехватило
горло. Боже мой, о чем я? Ведь сидящие в зале уже сегодня провожали на фронт
самих дорогих и близких, ведь разлука с любимыми встала у порога сотен тысяч
людей, и война надолго, а то и навсегда разведет миллионы рук. Не знаю, как
допела песню, получившую новый, неожиданный смысл. Отзвучал последний аккорд, в
зале — мертвая тишина, я стояла не двигаясь — замерли и зрители. И только когда
сделала движение по направлению к кулисам — в зале раздались аплодисменты. Я
видела глаза, полные слез, глаза благодарных слушателей и впервые за тот
страшный день почувствовала, что мое искусство нужно, что оно и в новых условиях
способно выразить самые откровенные чувства…».

А ВОТ КАК О ПЕРВОМ
ДНЕ ВОЙНЫ ВСПОМИНАЛ РЕЖИССЕР ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВ. Вместе со своей супругой
актрисой Любовью Орловой они выступали в Риге, рассказывая о своих творческих
планах, а утром 22 июня город бомбили фашистские самолеты. Уже на второй день
они получили указание немедленно вернуться в Москву. Во время посадки в поезд
произошел очередной налет. Летчик так обстрелял паровоз, что тот не смог
сдвинуться с места. Пришлось откатывать его руками. А потом к нему прицепили
какой-то другой, маломощный. Пассажиры по-черепашьи доехали до первого
взорванного моста. А затем на лодках переправились на другой берег реки.
Всюду были беженцы, пожары. Целых три дня пришлось им
добираться до Минска. Минск и всю Белорусскую железную дорогу бомбили
беспрестанно. Любовь Петровна организовала женщин эшелона в отряды
сандружинниц, наладив помощь раненым. «Она, — вспоминал Александров, —
была смела, находчива, энергична — такой, какой ее привыкли видеть на экране —
советской героиней.
Война явилась суровым испытанием для всего народа и для
каждого советского человека. Свой счет предъявила война и художникам: и как
гражданам страны, и как творческим работникам.
Мы, кинематографисты, сознавали себя мобилизованными,
идеологическими бойцами. В Великой Отечественной войне кино буквально с первых
дней великого испытания вышло на передний край общенародной борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками…».

И ЕЩЕ ОДНО
ВОСПОМИНАНИЕ О ВОЙНЕ, О КОТОРОМ В СВОЕ ВРЕМЯ РАССКАЗАЛ КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Кто не знает его знаменитое
стихотворение «Жди меня», которое было написано им в начале войны. По
признанию поэта и писателя, он совсем не любил писать письма и во время войны
не написал ни одного. Но в трудные минуты, когда было тяжело и одиноко, Симонов
иногда писал стихи, которые по сути, как он говорил, были не чем иным, как
неотправленные письма к женщине, находившейся очень далеко от него. Когда,
перебираясь с одного фронта на другой, он как-то на несколько дней оказался в
Москве, подарил ей эти стихи взамен писем, которых она так и ни разу не
получила.
«Я считал, — вспоминал Симонов, — что эти стихи —
мое личное дело, касающееся только меня и ее. Но потом, несколько месяцев
спустя, когда мне пришлось быть на далеком Севере и когда метели и непогоды
иногда заставляли просиживать сутками где-нибудь в землянке или в занесенном
снегом бревенчатом домике, — в эти часы, чтобы скоротать время, мне пришлось
самым разным людям читать стихи. И самые разные люди десятки раз при свете
керосиновой коптилки переписывали на клочке бумаги стихотворение «Жди
меня», которое, как мне раньше казалось, я написал только для одного
человека. Именно то, что люди переписывали это стихотворение и что оно так
доходило до их сердца, заставило меня через полгода напечатать его в газете.
Как только оно было напечатано, я стал получать сотни писем со стихотворными
ответами на него, иногда неумелыми, но всегда трогательными. И я понял, что это произошло не потому, что
стихотворение было каким-то уж особенно хорошим, а потому, что самой задушевной
мыслью многих сотен тысяч людей была мысль о том, что их ждут, что их должны
ждать и что это ожидание смягчает для них тяготы войны, а подчас и спасает
их…».