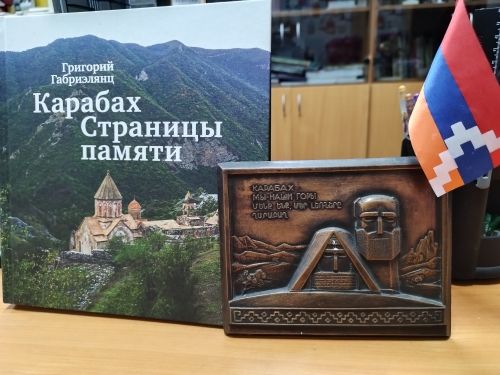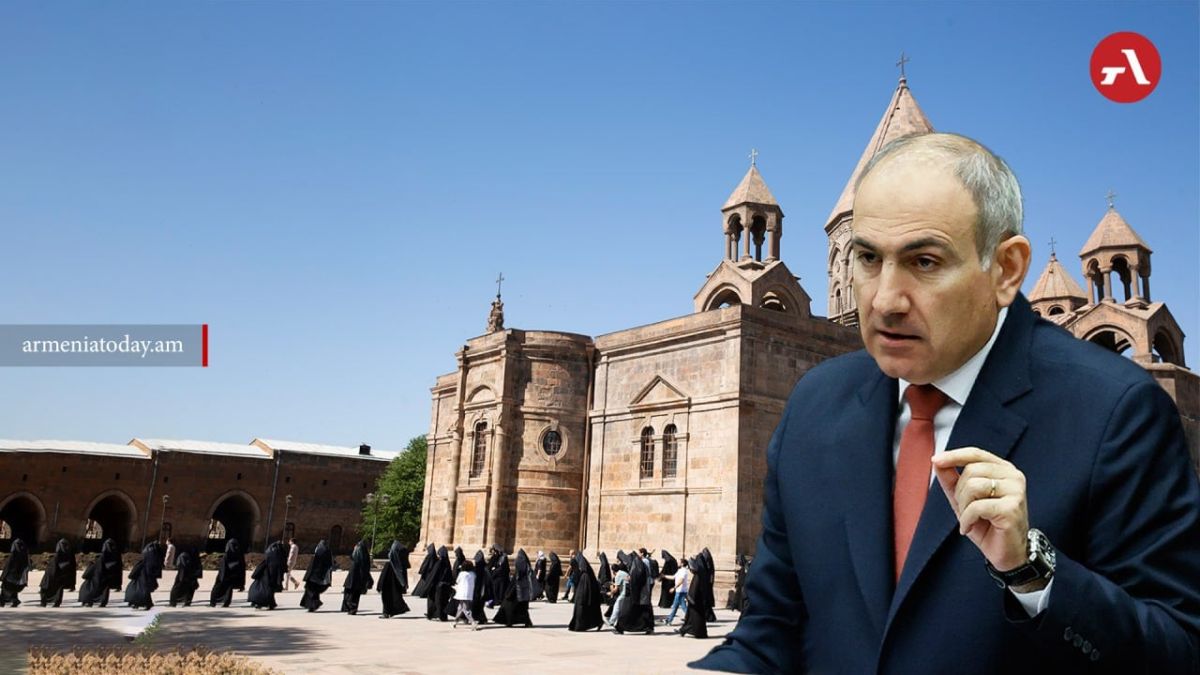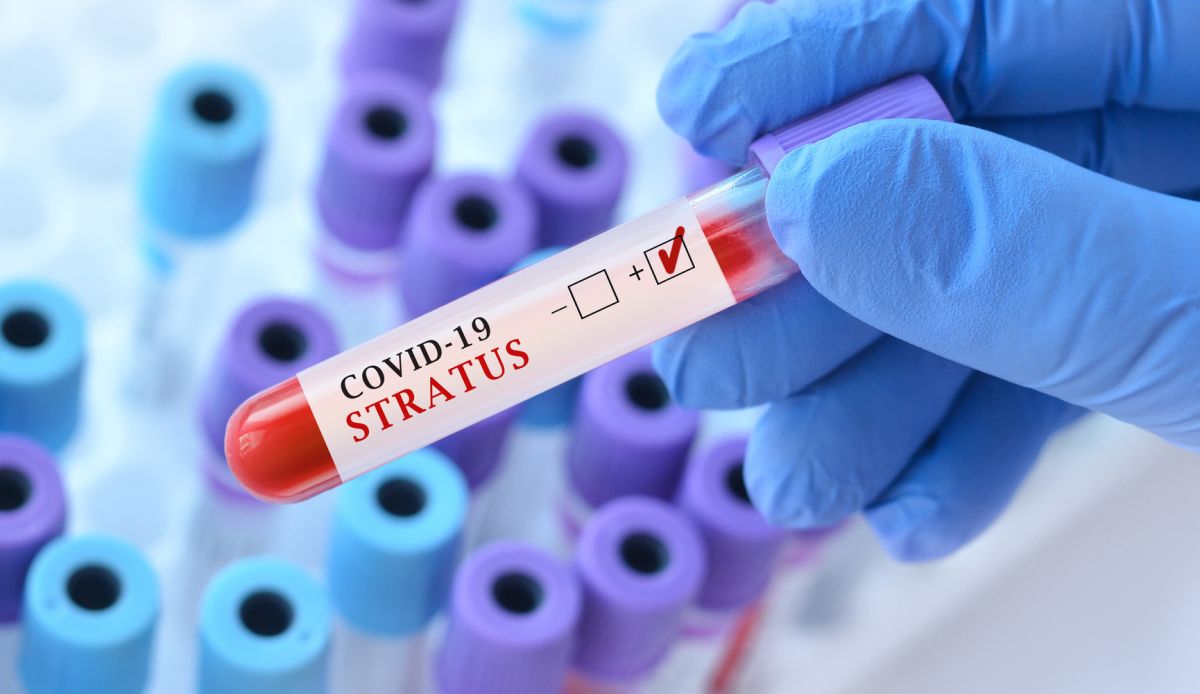В такой примерно
ситуации Ереван – город-крепость с 2200-летней историей, многократно
разрушенный и утративший свое былое значение – к середине XV века становится центром
Айраратского-Араратского ашхара. Конечно, и Айраратский ашхар, хотя и получил
свое название по имени священной горы, не был «всей Арменией», но, вероятно,
вовсе не случайно Араратская долина почти всегда становилась центром вновь и
вновь возрождающейся армянской государственности и на этой террито- рии в
разные эпохи находились 7 столиц Армении, в том числе и последняя – наш
Ереван.
Вряд ли можно посчитать, сколько раз за свою историю возрождался и
отстраивался Ереван. Гораздо легче посчитать, сколько раз он разрушался, об
этом сохранились более достоверные сведения. Завоевывали и разрушали Ереван
ассирийцы, римляне, византийцы, арабы, сельджуки, татаро-монголы, персы,
турки…
К середине XV века круг претендентов на него сузился: персы и турки. Город 14 раз
переходил из рук в руки: завоеватели изгоняли население, разрушали город
(излюбленное выражением летописцев – «сровняли с землей»), сами же в нем практически
ничего не строили. Что не успевали разрушить завоеватели, восполняла стихия:
землетрясение 1678 года, к примеру, разрушило почти все жилые дома, крепости,
церкви, мосты…
Так что нетрудно понять, почему в Ереване почти нет памятников
с почти трехтысячелетней историей. Сохранилось лишь то, что было спря- тано под
землей. Не могло в этих условиях сохранить себя и коренное население города,
также многократно уничтожавшееся и изгонявшееся. Достаточно вспомнить шаха
Аббаса, переселившего в Персию 300 тыс. человек, в том числе и ереванцев.
Вхождение Армении в состав России наконец-то принесло Еревану 99 мир. К концу XIX в. это был город, как
писалось в справочниках, «с некоторыми претензиями» и населением в 12-15
тысяч человек.
Не рядом, а вместе
Столицей Ереван стал после возрождения
армянской государственности в 1918 году. Население города к этому времени
увеличилось на несколько десятков тысяч человек – беженцев из Западной
Армении. Поток их стал заполнять Ереван, как и всю Армению, еще с 1915 года.
Сколько их было, трудно сказать, так как одни в Ереване не задерживались,
другие умирали от голода и эпидемий. Но, как ни странно, именно эти голодные,
больные, перенесшие ужасы Геноцида люди способствовали, наряду с оттоком из
Еревана заполонивших и осевших в нем в последние века турок, татар, персов,
превращению Еревана в истинно армянский город. Ибо это было беженцы из тех
самых «законсервированных» армянских ашхаров, и в Ереване впервые жители этих
ашхаров стали, хоть и вынужденно, жить не рядом, а вместе.
Эта главная
особенность нашей столицы, определившая ее новое и важнейшее значение в судьбе
армянского народа и формировании его государственного мышления и осознания
себя единой нацией, была заложена именно в те дни.
Фактически с первых же
дней существования Советской Армении ее власти продолжили политику собирания
армян. Страна остро нуждалась в квалифицированных специалистах во всех
областях, и по призыву Родины в Ереван стали стекаться инженеры, энергетики,
строители, профессура, деятели культуры и науки. Это тоже были бывшие жители
исторической Армении, выросшие на европейской, преимущественно российской,
культуре, зачастую даже не владеющие родным языком. Так, к 1926 году в Ереване
стали жить – и впервые в новой истории вместе – 65 тысяч западных и российских
армян, причем коренные ереванцы уже в то время в городе составляли меньшинство.
В 30-50-е годы Ереван рос стремительно. В 1939 году – 204,2 тысячи жителей, в
1959 году – 517,7 тыс. Конечно, немаловажным фактором был естественный рост
населения – высокий уровень рождаемости и постоянное снижение уровня
смертности. Но не только это. Столица армянской государственности продолжала
притягивать к себе армян со всего мира.
Волны репатриации из Спюрка в
1922-1926, 1932-1936, 1946-1948 годах увеличили население Армении на 175
тысяч человек, большая часть которых осела в Ереване. Это были те же западные
армяне, все еще сохранявшие приверженность своим ашхарам, но уже утратившие
былую общинную «чистоту» и несущие на себе отпечаток пребывания в странах, из
которых они приезжали.
В Ереване и вокруг него в эти годы вырастали поселения,
образующие вместе с самим городом своеобразную модель исторической Армении:
Арабкир, Зейтун, Харберд, Нор Ареш, Себастия, Кирза, Малатия, Киликия…
Обманная модель и слабо утешающая, но, видимо, жители этих поселений хотели
сохранить в себе память и верность своим истокам, своим ашхарам, надежду на
возвращение на историческую родину. Армяне из Советского Союза пополняли Ереван
не волнами, а ручейками, зато ручейки эти никогда не прерывались.
Горнило для
общеармянского менталитета
А сама Армения? Она, естественно, тоже пополняла
свою столицу, и Ереван (хотя и был «закрытым» городом) жадно вбирал в себя
провинциалов – представителей 5 исторических ашхаров, оказавшихся хоть и не
полностью на территории нынешней Армении.
Казалось бы, Новый Вавилон. Ведь все
эти люди везли в Ереван свои традиции и обычаи, психологию и мировосприятие,
наречия и диалекты… Но нет, именно в эти годы Ереван превращался в
общенациональную столицу, в горниле которой переплавлялись все различия,
извлекалось в процессе естественного отбора все лучшее и полезное, из
менталитета ашхаров складывался и вырастал общеармянский менталитет.
Странную
на первый взгляд картину являл Ереван: всюду, казалось, были одни тбилисцы,
бакинцы, карабахцы… ванцы, мушцы, мусалерцы… «ахпары», приехавшие из той
или иной страны… Но эта, идущая из глубины веков общинная психология ашхаров
повелительно перекрывалась психологией ереванца, олицетворявшего в себе
«общеармянина», по крайней мере некий этап на пути его формирования. Не
случайно в Ереване никогда не существовало властных или мафиозных кланов,
основанных на принципе землячества, как, скажем, нахичеванский в Азербайджане.
Ереван
становится большим городом: в 1970 году – 775,2 тысячи человек, в 1977 –
967,2 тысячи. Но главным было не то, что он стал большим, а то, что он стал
городом. Со своими сугубо ереванскими традициями, 101 укладом, атмосферой…
Жить в нем, кстати, приезжающим было нелегко. Бывшие сельчане с трудом
осваивались в большом городе, приехавшие из-за «железного занавеса» никак не
могли смириться с советскими порядками, а бывшим жителям крупных городов с многовековыми
традициями и многонациональным населением не хватало здесь некоторой свободы,
«светскости». Да и могла ли быть иной атмосфера города, у жителей которого
если не в памяти, то в подсознании жили ужасы Геноцида, погромов, изгнаний.
Ереван
принимал всех, и, поскольку город уже сложился, он достаточно легко вбирал в
себя размеренно втекавшие в него ручейки, и большинство приехавших если не в
первом, то во втором-третьем поколении становились ереванцами. Этому
способствовали, на это «работало» все: сама неповторимая, уникальная
архитектура города, прекрасные памятники, высочайший уровень науки,
образования, культуры, искусства. И хотя дело было в Советском Союзе,
поощрявшем национальное в лучшем случае только «по форме», в этом городе все
было проникнуто национальным содержанием и смыслом.
Может, эту особенность
Еревана не всегда замечали сами ереванцы, но ее непременно отмечали гости
города и прежде всего – армяне Спюрка, говорившие о нашей столице с
неизменным восхищением и безусловно признававшие ее общеармянской столицей. Они
не только поражались тому, что вокруг все говорят на армянском, но и получали
возможность хотя бы на короткое время испытать давно утраченное армянами и постепенно становящееся обычным для ереванца душевное состояние: расслабься, ты
– в безопасности, ты у себя дома.
Рисуя эту несколько идиллическую картину
прошлого, мы, естественно, не забываем ни о политическом режиме, ни о бытовых
неудобствах, ни об отсутствии товаров и т.д. Но сейчас речь не об этом, а о главном
– о Ереване как общенациональной столице, вобравшей в себя как бы все прошлое
своего народа, все своеобразие его разрозненных и рассеянных частей,
обладающего уже достаточно развитым государственным и общенациональным
мышлением и самосознанием.
…Если их не более 7%
Почему мы говорим о том
Ереване в прошлом? Не только потому, что мы, старые ереванцы, ныне путаемся в
новых названиях улиц, не только потому, что исчез привычный облик города,
многие его привычные и обжитые на протяжении многих десятилетий заветные
уголки. Не только. Все меньше становится самих ереванцев – носителей того духа
и смысла города, которые были его сущностью. Сколько ереванцев увезли с собой
этот ереванский дух, который в других краях использовать как профессию невозможно
и который со временем неизбежно ослабнет, заменится в лучшем случае
общинно-национальным, а то и вовсе неизвестно каким сознанием? В конце 80-х в
Ереване было примерно 1200000 жителей. Сегодня их, вероятно, существенно
меньше. Их было бы еще меньше, если бы не новая волна репатриации. Казалось бы,
не впервые и армяне приезжают вроде бы из тех же мест. Но из теории известно,
что общество без проблем адаптирует новых членов, если их не более 7%. Судьба
распорядилась так, что новых жителей в Ереване сегодня гораздо больше.
Сможет
ли Ереван сохранить себя, сможет ли превратить своих новых жителей в ереванцев,
сможет ли и в будущем развиваться как общеармянская столица, формирующая
национальный менталитет, самосознание, идеологию, духовность, культуру?.. Это –
судьбоносный вопрос для нашего народа. Ведь как пелось в одной из многих
замечательных песен, сложенных в те годы о нашем городе: «ЕРЕВАН – ТЫ БОЛЬШЕ
ЧЕМ ГОРОД…»
10 октября