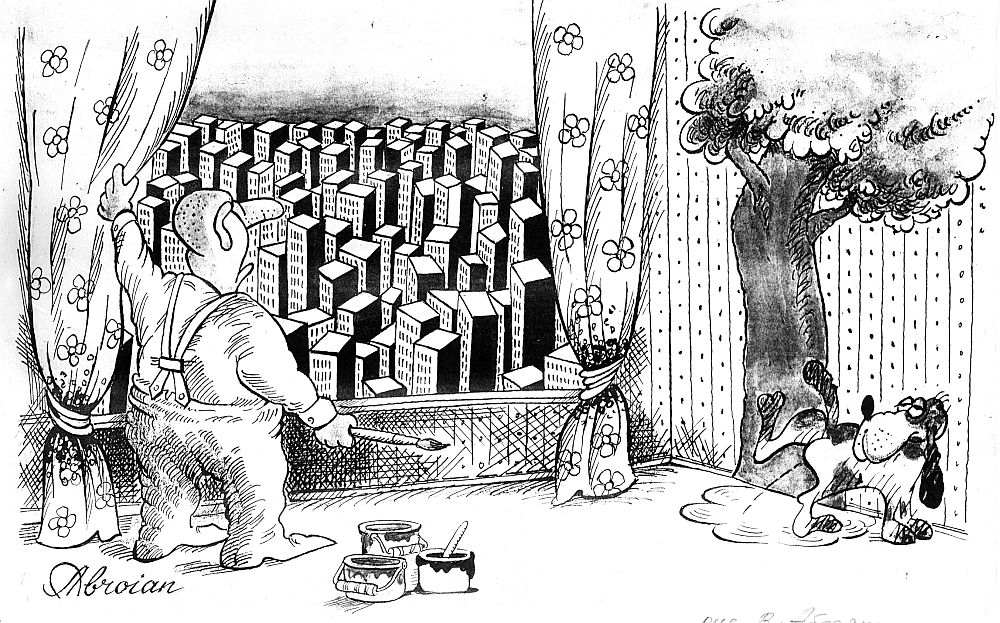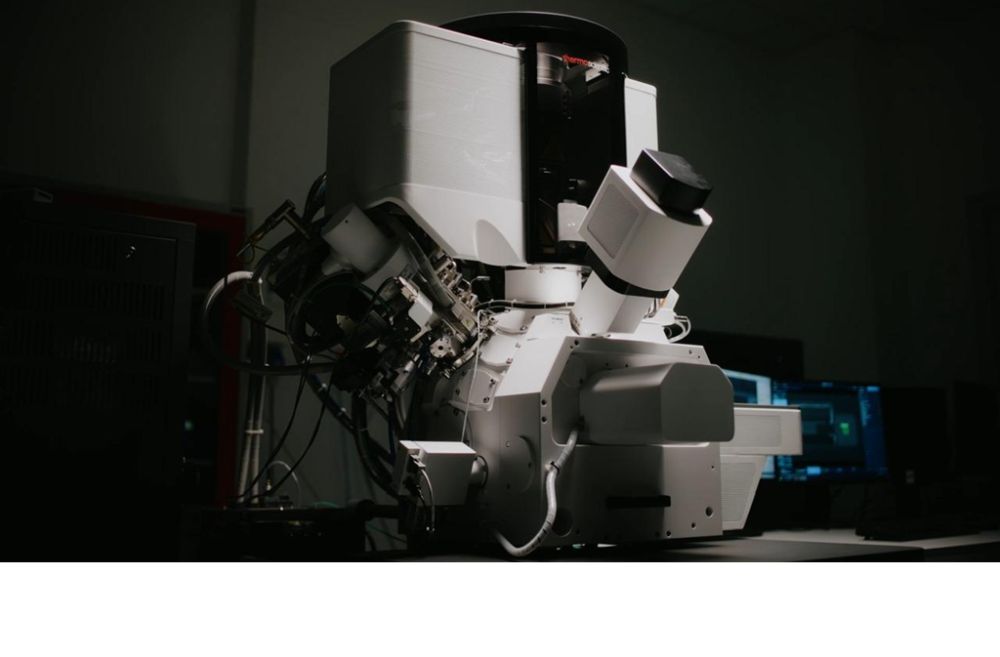На наш взгляд, встреча
с заслуженным деятелем искусств РА, композитором Левоном ЧАУШЯНОМ всегда предполагает
серьезный, профессиональный разговор, касающийся весьма важных вопросов развития
музыкального процесса в республике. Вот и сейчас, затрагивая многие стороны и
грани нашей музыкальной жизни, Левон Чаушян не остался в стороне и от главной
проблемы: композитор и время.
— Левон
Александрович, какой вам представилась первая половина этого года? Как бы вы ее
охарактеризовали?
— Этот год имеет особое значение для всех армян. Он нас
вернул к трагическим событиям 100-летней давности, к преступлению, совершенному
Османской Турцией против армянского народа. Этому преступлению нет оправдания,
и оно не имеет срока давности.
Прошедший апрель был отмечен тремя неповторимыми
событиями. Это богослужение в соборе Св. Петра в Ватикане и литургия, которую
отслужил Папа Римский Франциск II, посвященная Геноциду, затем прошедшая в
Эчмиадзине 23 апреля канонизация жертв этой чудовищной резни, не имеющая себе
равных в истории христианства. И, наконец, церемония поминовения жертв 1915
года 24 апреля в Цицернакаберде, отмеченная с чувством национального
достоинства и милосердия. В апреле, безусловно, мы одержали и политическую, и
моральную победу. Естественно, для этого потребовалась огромная работа многих
людей, за что всем им наша искренняя благодарность. Особая благодарность и
президенту нашей страны Сержу Саргсяну за огромные усилия, за гибкую и
одновременно принципиальную политику в вопросе признания Геноцида. Очень важным
считаю и проведение концертов по всему миру в связи со 100-летием печальной даты.
Замечательно, что в них принимали участие и именитые зарубежные музыканты. Все
это заслуживает самых высоких похвал.
Но наряду с этим у нас происходят и диссонирующие
явления, которые вызывают недоумение. Так, мне непонятно, как мог армянский
чиновник запланировать ремонт Большого концертного зала филармонии именно на
зиму, весну и лето 2015 года, лишив тем самым всех нас этой главной музыкальной
арены именно в юбилейном году? Ремонт не вызван какой-то сверхактуальной,
неотложной необходимостью: он призван усилить освещение и дать световые
эффекты, которые, как известно, абсолютно не нужны для симфонических и камерных
концертов. А ведь в свое время это был режимный зал для классической музыки
подобно Большому залу консерватории в
Москве, Вигмар-холлу в Лондоне, залу Гаво в Париже… К сожалению, это никем
сейчас не учитывается.
24 апреля в Академическом театре оперы и балета был
проведен симфонический концерт как одно из главных мероприятий, посвященных
100-летию Геноцида армян. Исполнительский уровень был хорошим: великолепные
солисты, дирижеры, сборный оркестр, состоящий из музыкантов со всего мира.
Наряду с отдельными произведениями армянских композиторов часть концерта заняло попурри из разных
произведений, то есть фрагменты симфонических, камерных произведений
(оркестрованных), киномузыки. Возможно, к праздничному юбилею такая форма была
бы уместна, но в данном случае она оставляла весьма непрофессиональное
впечатление. Более того, в концерте (а длился он 2 часа) не было исполнено ни
одного произведения, написанного за последнюю четверть века, т.е. за годы
независимости. Но нашими современными композиторами созданы достойные
произведения во всех жанрах, были и интересные сочинения, посвященные памяти
жертв Геноцида. Но ни одно из них не было исполнено.
Может быть, кому-то выгодно представить, что достойная
внимания музыка завершилась с распадом советской страны, с чем я категорически
не согласен. Практически у нас почти не звучали произведения, написанные в
последние годы. Словно композиторы — слабое звено, к которому надо относиться с
сочувствием, но никак не с гордостью.
Удручает и другое: вот в Армении снимается огромное
количество сериалов (здесь речь не о качестве), но ни в один из них не
приглашают профессиональных композиторов, не заказывают музыку. Понимаю, что за
музыку тоже надо платить, но средства изыскиваются почему-то исключительно для
полупрофессиональных и самодеятельных актеров.
— И на эстраде
профессиональные композиторы не особенно востребованы, о чем мы неоднократно
писали.
— У нас давно уже авторы текстов, музыки и исполнители
часто выступают в одном лице. Результат удручающий. Выигрывает бескультурье.
— Что еще в
культуре вызывает у вас особую тревогу?
— В экономике, в производстве существует понятие
«монополия», которая относится к разряду очень вредных и опасных
явлений. Но более губительна монополия в области культуры. В течение долгих лет
мы говорили о неблагополучной ситуации в Оперном театре. Все эти разговоры
завершились тем, что пару лет назад заменили директора театра. Но, как правило,
когда меняется руководство театра, соответственно меняется курс, направленность
театра. Но особых перемен к лучшему я не заметил. Премьерами нас не радуют, а
буквально на днях оперу «Ануш» показали в марзах в сокращенном варианте.
— Как известно, в
районах отсутствуют условия для показа спектакля с использованием полного
состава хора, оркестра, декораций…
— В любом случае, недопустимо кромсать классику. Лучше из
марзов привозить сюда слушателей, если у них нет соответствующей сцены. Купюры
допущены и в «Давид Бек», и в «Алмаст». Эти сокращения опер
и переоркестровки делаются конкретными людьми, но ведь их уровень несопоставим
с уровнем авторов этих произведений. «Ануш» имеет 100-летнюю историю,
и эта опера — одна из любимых. Кстати, хочу напомнить, что и Оперный театр, и
консерватория, и филармония, и многие другие учебные заведения и коллективы
добивались самых высоких результатов и побед именно тогда, когда во главе этих
коллективов и организаций стояли композиторы. И это не случайное совпадение, а
скорее закономерность, так как именно композиторы (речь идет о талантливых)
являются разносторонне образованными музыкантами, и кругозор у них значительно
шире. Пресловутое выражение «кадры решают все» остается до сих пор
актуальным. Каждое новое назначение у нас делается с каким-то особым прицелом,
направленным на достижение результата, имеющего обратный эффект, идущего
вразрез с ожиданиями многих.
— Левон
Александрович, недавно у нас завершился XI Международный конкурс имени великого
Хачатуряна. Какие эмоции он у вас вызвал?
— Ничего определенного о прошедшем конкурсе сказать не
могу, поскольку ни одного тура не слушал. Уверен только в том, что конкурс —
это прежде всего праздник, к которому серьезно готовятся, устраивают интересные
передачи по телевидению и радио, чтобы приобщить к высокому искусству огромную
слушательскую аудиторию. Так происходит во время серьезных международных
конкурсов, таких, например, как конкурс им. Чайковского. Благодаря каналу
«Культура» мы имели возможность прослушать все выступления лауреатов
начиная с 1958 года. Для миллионных слушателей это был действительно большой
праздник приобщения к великой музыке. В Ереване интерес к хачатуряновскому
конкурсу падает, он не выливается в праздник. Его ежегодное проведение
превращает праздник в обыденный ритуал. Хачатуряновский конкурс должен стать
брендом, и здесь надо со всей серьезностью подходить к любой детали. Меня,
например, просто возмутил откровенно любительский рисунок на постерах и афишах,
изображающий Арама Ильича. Как правило, все именные конкурсы пользуются
фотографией композитора или скульптурным изображением. Видимо, слишком надо
было постараться, чтобы добыть такой неудачный рисунок для нашего конкурса.
И еще. В программу именных конкурсов включается, как
правило, одно обязательное произведение. Оно пишется до конкурса и за месяц до
его начала рассылается участникам творческого соревнования. И по тому, как это
произведение будет исполнено, можно судить об уровне дарования,
профессионализма участника. К тому же благодаря этому новому сочинению
исполнитель знакомится с сегодняшним творчеством. И даже дело не в том, что это
шедевр или нет. Главное, чтобы из поля зрения не выпало современное творчество.
Композиторское творчество для любой страны — это
важнейший показатель культуры. Как много потеряла бы русская культура без
великих имен — Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Скрябина,
Прокофьева… У нас несколько иные масштабы, но армяне дали миру такого гения,
как Арам Хачатурян, и внимание к нему должно быть соответствующее. Все
связанное с этим именем надо проводить на достойном уровне, чтобы вызвать
интерес и всего мира. Был короткий период, когда несколько померк имидж
Конкурса им. Чайковского, но в России сделали все, чтобы вернуть престиж этого
всемирного форума. С сожалением приходится отметить, что уровень и авторитет
нашего конкурса не соотносятся с именем великого Арама Хачатуряна.
— Вот уже почти
два года, как изменилось руководство вашего творческого союза. Что вы скажете о
сегодняшнем состоянии СК?
— Я думаю, что изменилось многое. Союз стал наконец
объединять, а не разъединять своих членов. Во-вторых, значительно
активизировалась пропаганда армянской музыки. Был проведен ряд концертов в США,
Франции, России. Состоялись обменные концерты с композиторами России, Грузии.
Стали активно действовать секции. Мы наконец отказались от алогичного названия «Объединение
композиторов и музыковедов», вернувшись к «Союзу композиторов».
В союзе налаживается издательская деятельность, что очень важно. Конечно,
сделано далеко не все, но атмосфера в союзе, стремление двигаться вперед дают
большую надежду на то, что мы вернем нашей творческой организации ее прежний
авторитет.
— Левон
Александрович, вы неоднократно поднимали вопрос плачевного состояния нынешних
музыкальных школ. Что-то изменилось к лучшему в этом плане?
— Когда мы говорим о развитии армянской музыкальной
культуры, то прежде всего обращаем внимание на детские музыкальные школы,
поскольку именно там закладывается фундамент дальнейших успехов и завоеваний. К
сожалению, непонятно, почему оплата учителей музыкальных школ и колледжей
значительно уступает оплате учителей
массовых школ. А ведь музыкальная культура для Армении — это
стратегически важное направление, где мы на равных могли бы сотрудничать и
общаться со многими странами…
В завершение беседы хочу сказать, что мы имеем огромный
творческий потенциал. Уверен, что он будет реализован и наше музыкальное
искусство займет достойное место в мире. А для этого необходимо, чтобы мы были
нетерпимы к любым негативным явлениям и нюансам в нашей культуре.