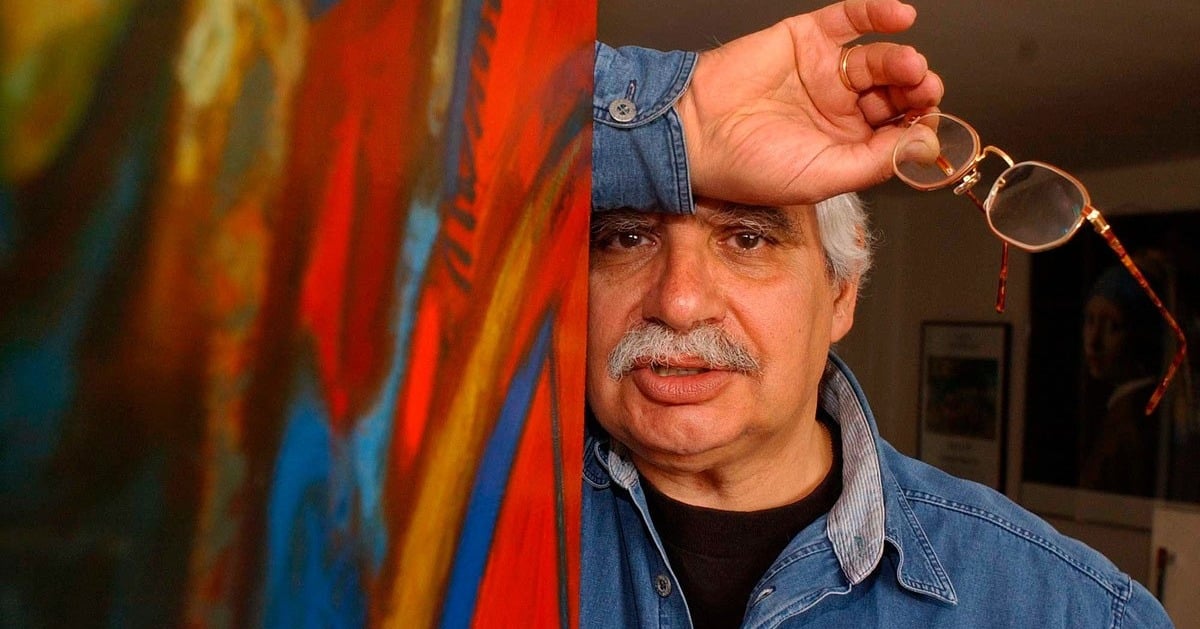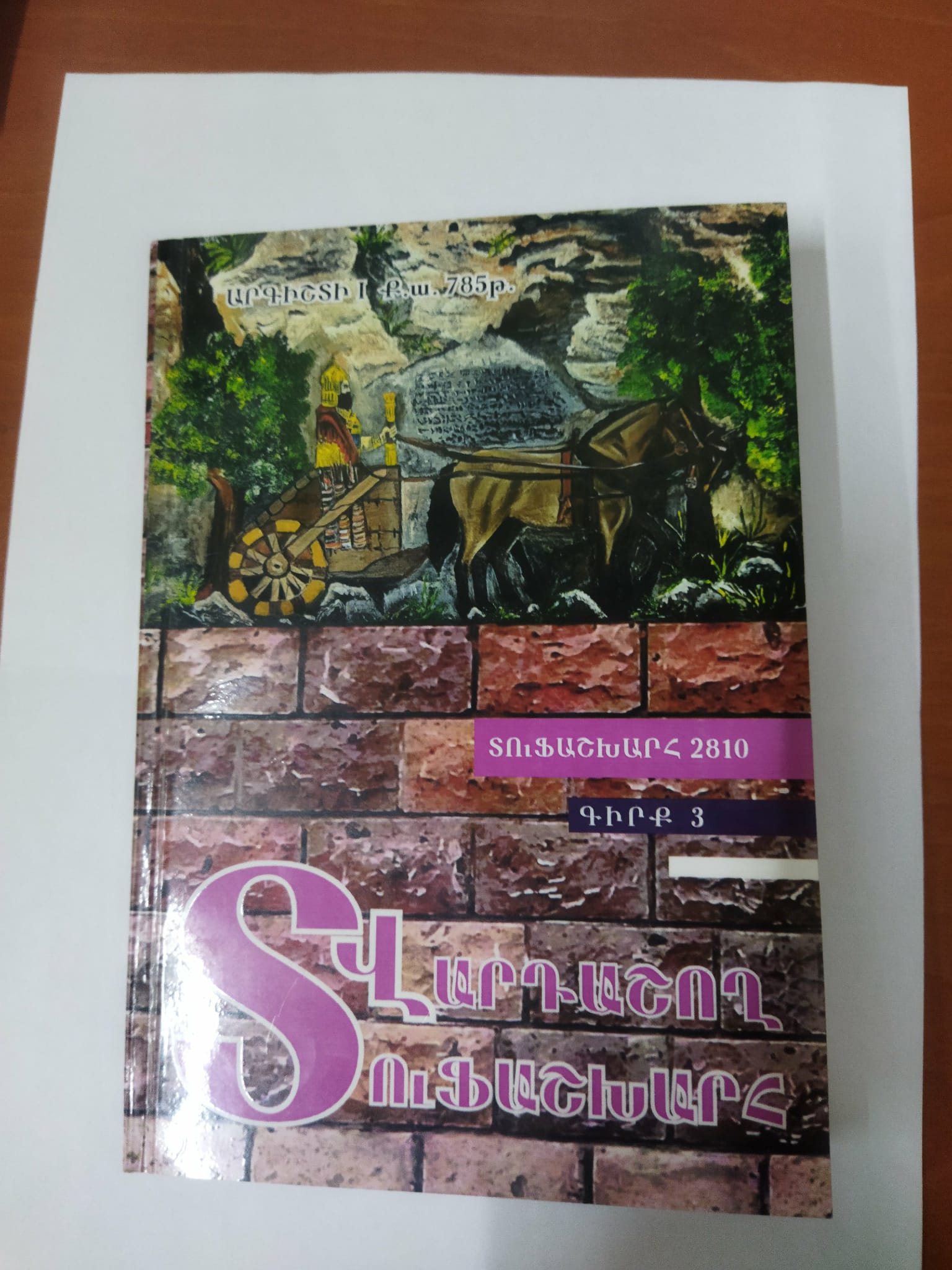Очень хочется рассказать о соприкосновении моего писательского опыта с телевидением. Что ничего хорошего из этого соприкосновения не могло выйти, и ежу понятно. Но почему-то меня несколько раз звали. И я решила не только глазеть в телевизор, но, как говорится, глазеть из него. Кто мог знать тогда, что моя самая глубинная память запомнит эти визиты, особенно один из них, не просто надолго, но навсегда.
«ТАК, СВЕРИМ ЧАСЫ», — СКАЗАЛИ В ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКЕ. Сверили. Ну наручные я не ношу уже много лет, все сняла с себя: пусть тело гуляет на воле, не надо его ничем окольцовывать. К тому же куда спешить в мои годы, на кладбище и без часов поспеешь. А в остальном сверяюсь по солнцу, как косматые предки. Впрочем, молодые современники не менее косматы.
— Так, шеф, где будем снимать? В вашей халупе или в студии?
Я долго не могла понять, почему голос в телефонной трубке называл меня шефом. Потом мне объяснили, что это жаргон телевизионщиков. На фоне книжных шкафов будет клево. Клево-то клево, да только ввалятся человек пять (включая шофера), так что от интерьера мыслителя останутся рожки да ножки. Наполнят мою комнату чужеродной музой. Нет, лучше уж я сама поеду в студию.
Еду на горку. Тогда все ездили на горку, это сегодня телестудии разбросаны по городу. В огромном павильоне, больше похожем на сарай, меня усаживают в кресло, устанавливают за спиной полосатый фон и оставляют одну. За мной следят из рубки, отделенной от сарая толстенным стеклом из какого-то заменителя. «Внимание: микрофон включен» — зажглась зеленая надпись. Руки и ноги мои похолодели (сарай к тому же был нетопленый: дело происходило в хмуром декабре одного из блокадных лет.
Мне велено было явиться в черном (темные тона лучше смотрятся на экране, так просветили меня). Я заняла у подруги модный черный костюм, к которому и прикрепили «жучок». Страх, холод и чужой костюм сделали свое дело: ни о какой раскованности не могло быть и речи.
«Так, внимание, пробная съемка, начинайте говорить», — прогремел из рубки микрофонный голос. На экране рядом со мной зажглось видение. Это была я. Весь экран занимало какое-то чудовищное сооружение, похожее на зиккурат. Голос свой я тоже не узнала: нечто потухшее, лишенное страсти и свободы. Тоска зеленая на полосатом фоне. Кстати, эта полосатость только усиливала ощущение кутузки. И, хотя кресло было тоже черное, общее впечатление было серое. Погасшая, вконец запуганная, моя душа о чем-то неохотно говорила, мелькали какие-то кадры, средне сопрягавшиеся с предметом речи. Словом, мне хотелось домой, причем немедленно.
— НЕТ, ЛИЦО НЕ ТО, — УСЛЫШАЛА Я В МИКРОФОН. В РУБКЕ СОВЕЩАЛИСЬ.
У меня не то лицо, огорчилась я и впервые попыталась посмотреть на себя со стороны. Что ж, возможно, и не то. Но где взять то?
Потом они заговорили на каком-то странном языке. Это был вроде русский язык, но вроде бы и эсперанто тоже. Единственное, что я поняла: нет, лицо не то. Вообще вся конфигурация не та.
Шрахк! Кто-то со всего размаха открыл ногой дверь в сарай (простите, в телепавильон).
— Какой кретин усадил ее в это кресло? — голос режиссера, сама его интонация уже снимали кого-то с работы. — Черное на черном, вы что, рехнулись? Немедленно посадите ее в желтое кресло.
Теперь сооружение на экране было уже в попугайных тонах. Снова зажглось табло, и рубка произнесла: «Выглядишь гениально».
Странно, подумала я: как можно выглядеть гениально, если лицо не то. Да еще если человек максимально отчужден от собственной личности. Мой полностью неузнаваемый голос бубнил что-то. Лик страшной замордованности глядел на меня. И я вспомнила, что двадцать пять назад читала по радио свое «Армянское нагорье». О, благословенное, таинственное радио — ему не нужно ваше лицо, а только и только ваш голос и ваша интонация. Вот почему авторских удач на радио побольше, чем на телевидении.
— Говори громче, — опять рявкнула рубка.
Непослушным языком я произнесла громче очередную мысль и поспешно подошла к финальной фразе, которая ночью, дома, звучала высоким аккордом, а здесь обернулась писком, и с облегчением открепила «жучок». «Нет, нет, все сначала», — опять рявкнул режиссер из рубки.
Все сначала? Живой спонтанный текст? Я ведь не актриса. И главное, сейчас, когда вожделенное освобождение было так близко.
— Забудьте письменное слово! — неслось из рубки.
Я со страху тут же забыла все, по-моему, всякое слово вообще. Потом очень жалела, что так быстро сдалась: культура дисциплинированного, структурированного письменного слова здесь очень пригодилась бы.
Я говорю слишком серьезно, подумала я. Боже мой, я забыла, что мне будут внимать те, кто целый день смотрит рекламу, развлекаловку и всякое мыло. А размышляющие звуки, невесть откуда залетевшие в телемир, да кому они нужны!
Дома я прежде всего поцеловала целебную тишину своей комнаты. И только склонившись над белым листом и взяв авторучку, снова убедилась в том, что вначале было Слово.