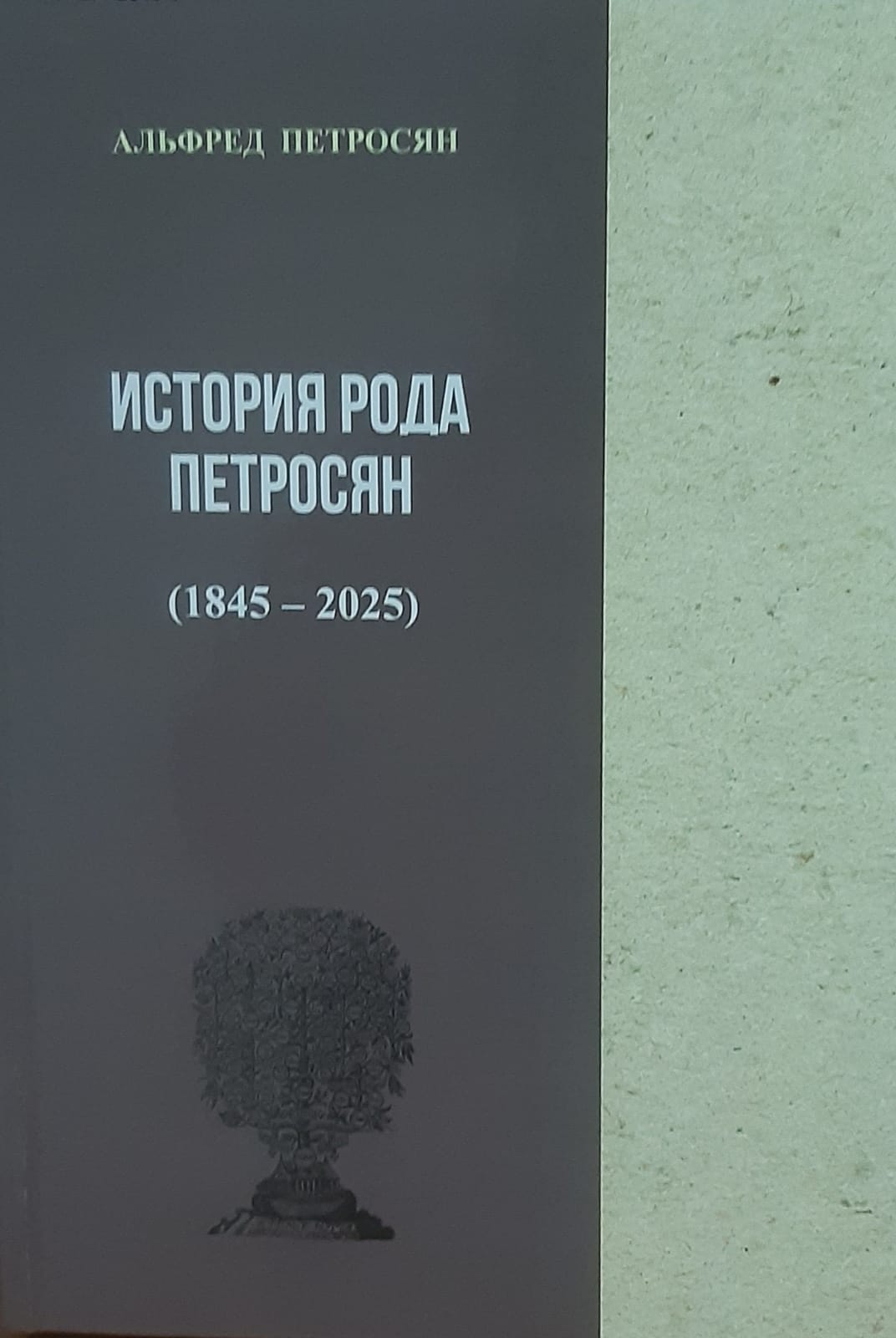На днях Конституционный суд РА вынес решение по заявлению генпрокурора о соответствии части 4 статьи 21 УПК Конституции РА. Речь идет о выполнении следственным органом решений надзирающего прокурора.
ЕЩЕ ДО ЗАЯВЛЕНИЯ ГЕНПРОКУРОРА В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД с аналогичным вопросом обратился омбудсмен. Тут надо отметить, что на практике, в ходе расследования уголовных дел, нередко возникают противоречия между прокуратурой и следственным органом. Последние далеко не всегда соглашаются предоставить расследуемое дело надзирающим прокурорам по первому требованию с их стороны. На то есть свои доводы. Например, не вполне логично в ходе следственных действий останавливать их и направлять материалы в прокуратуру, где они запросто могут пролежать дней 10, а то и больше. Это вредит интересам следствия, которое вынуждено дожидаться, пока прокурор вернет дело. В то же время никто не запрещает прокурору ознакомиться с материалами на месте, не создавая тем самым проволочек следственному процессу. Но такой подход не удовлетворяет надзирающий орган. Одним словом, сам факт обращения генпрокурора в Конституционный суд говорит о том, что эта серьезная проблема, постоянно возникающая в контактах между прокурорами и следователями, обострилась и решить ее самостоятельно ведомства не смогли.
Конституционный суд, изучив объединенные в одном производстве заявления генпрокурора и омбудсмена, принял сторону надзирающего органа. Так, в заключительной части своего решения КС отметил, что часть 4 статьи 21 УПК РА устанавливает: во-первых, в случаях, когда осуществляющий надзор прокурор отменяет решение о прекращении дела, его возбуждении или отклонении возбуждения уголовного дела и в рамках своих полномочий дает конкретные указания и распоряжения, новые решения возможно принять только после выполнения указанных распоряжений прокурора.
Во-вторых, во время досудебного производства истребованные у органа дознания следственные материалы (в целях контроля над законностью происходящего) должны выдавать прокурору без промедления. Исключений и вариаций со ссылкой на конкретные ситуации здесь не предусматривается.
И, в-третьих, решение прокурора на досудебном этапе в рамках надзора надо расценивать как окончательное.
НАДО ОТМЕТИТЬ, ЧТО РЕШЕНИЕ КС ОТ 19 НОЯБРЯ СЕГО ГОДА ВЫЗВАЛО неоднозначную реакцию среди практикующих юристов. По большому счету юристы сходятся в том, что в решении есть ряд положений, имеющих важное значение в правоприменительной практике. Вместе с тем многое в нем весьма спорно и неприменимо. Получается, что если прокурор отменил решение о прекращении дела, то следователь после выполнения указаний прокурора не может на той же процессуальной основе (скажем, ввиду отсутствия состава преступления) прекратить производство? Это многим кажется нелогичным. Тем более что практика показывает: прокурор часто отменяет решение о прекращении дела для обеспечения полноты расследования. Затем следователь выполняет дополнительные действия и на том же основании прекращает дело, что утверждается прокурором. Теперь в подобных случаях придется думать о новом основании.
И еще. Предписывается на досудебном этапе выдавать материалы прокурору незамедлительно, что вполне понятно. Но в ряде случаев следователь по объективным причинам просто не в состоянии это сделать. Выше мы уже отмечали этот фактор. Материалы, например, могут быть на экспертизе или понадобятся в процессе реализации срочных действий (скажем, для внесения ходатайства об аресте в суд). Как должны регулироваться такие ситуации?
Вопрос этот, конечно же, из серии риторических. Решения Конституционного суда в нашей стране являются окончательными и вступают в силу с момента их принятия. Даже, если надежд на внесение ясности в спорный вопрос они не оправдывают, как получилось и в нашем случае. И разъяснений к решениям КС ждать не приходится, хотя во многих случаях это было бы совсем не лишним. Добавим, что Генпрокуратура, подробно обсудив данное решение КС на расширенной коллегии и основываясь на нем, уже дала соответствующее распоряжение своим подразделениям по республике.