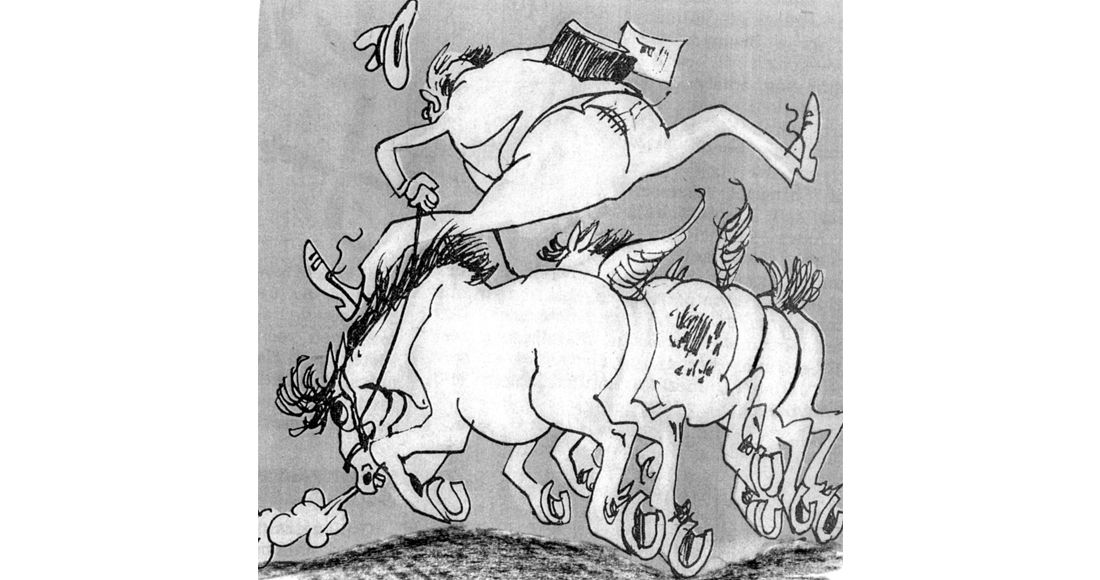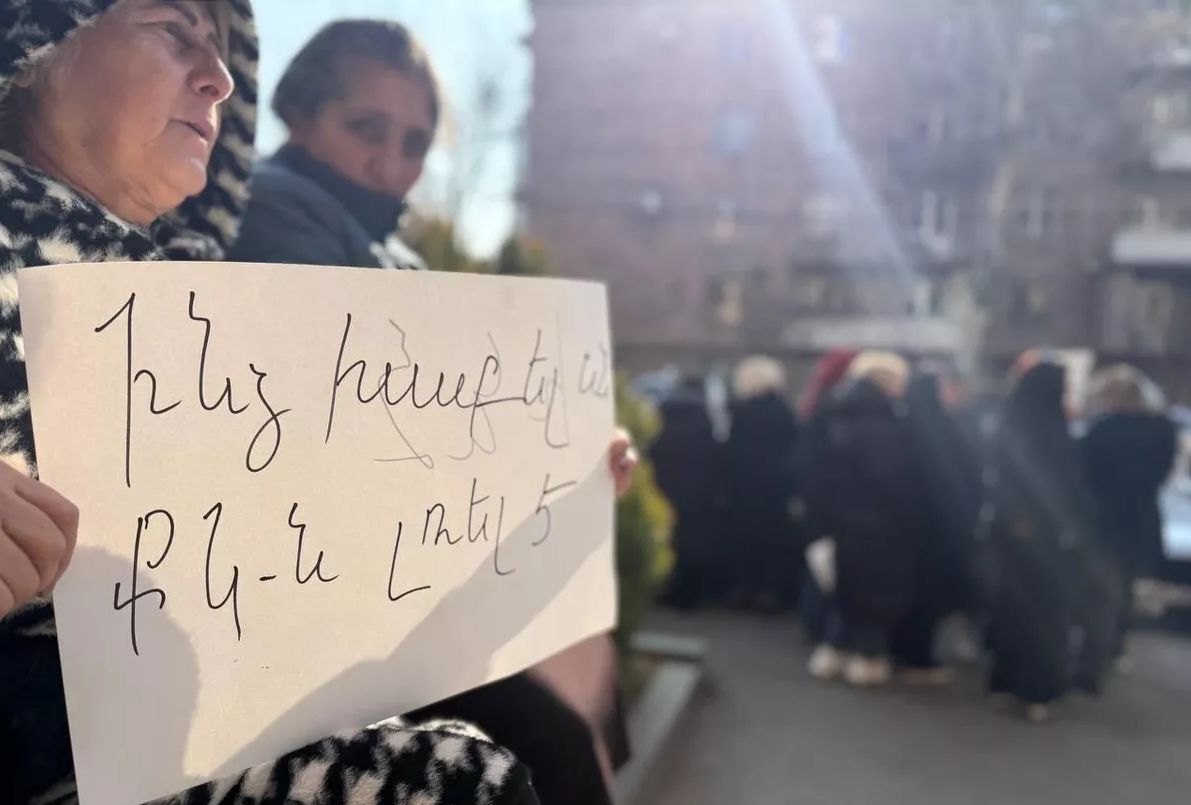Тема строительства в Армении современного медеплавильного комплекса, несмотря на все «но», появляется в СМИ с завидной регулярностью. В конце первой декады мая с.г. она, казалось бы, обрела более чем конкретную форму: «Китайская сторона намерена построить в РА медеплавильню» — под такими заголовками в СМИ появились публикации о встрече министра экономики Армении Арцвика Минасяна, посла КНР в РА Тиана Эрлуна и вице-президента компании Citic Construction Яна Цзянцяна.
ЗАМЕТИМ, ЧТО ДО ЭТОЙ ВСТРЕЧИ ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ Тиан Эрлун отмечал, что в Китае есть интерес к ней и в дальнейшем предусмотрен визит в Армению китайских бизнесменов с целью на месте ознакомиться с условиями и возможностями реализации программы. И вот топ-менеджер одной из китайских компаний уже в Армении, обсуждает с армянским министром захватывающую перспективу «стройки века».
Как сообщили тогда из Минэкономики РА, Ян Цзянцян, представляя деятельность компании Citic Construction, отметил, что это его первый визит в Армению, и возможность встречи с министром вокруг конкретной программы уже знаменует собой хорошее начало для деловых отношений и развития сотрудничества. Правда, обращаясь непосредственно к теме строительства в Армении медеплавильного комплекса, он больше говорил о наличии необходимых условий для реализации программы, о вопросах финансирования.
А условия для реализации указанного проекта в Армении, прямо скажем, весьма и весьма сомнительные. В свое время нецелесообразность строительства мощного медеплавильного комплекса объяснялась просто: в стране не производится необходимого количества меди для обеспечения рентабельной деятельности подобного предприятия. Однако за последние пару лет в Армении и Нагорном Карабахе введены новые мощности по добыче и переработке медной руды (Техут, Кашен), которые по крайней мере приближают нас к заветной мечте. Но обольщаться еще рано. И вот почему…
ДАЖЕ ЕСЛИ ДОПУСТИТЬ, ЧТО СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕДИ в Армении уже вполне достаточно для обеспечения безубыточной деятельности медеплавильного завода, остаются другие «но» — и достаточно тяжеловесные. Прежде всего, без наличия рынка сбыта колоссального количества серной кислоты, высвобождаемой в результате деятельности медеплавильного производства, говорить о строительстве такого завода по крайней мере легкомысленно.
Во-вторых, экология. Одно дело, когда в Армении функционируют обогатительные фабрики (ГОКи, то есть горнообогатительные комбинаты — Каджаранский, Капанский, Агаракский, Ахталинский и некоторые другие помельче), и совсем в экологическом плане другое — медеплавильный завод, который несет в себе риски серьезных экологических последствий. Иными словами, «экологический отпечаток» такого предприятия несопоставим с ущербом для окружающей среды деятельности обогатительных комбинатов.
Таким образом, если прибавить к этим «но» еще и неблагоприятные для энергоемких предприятий горнорудной сферы тарифы на электроэнергию в Армении, то, положа руку на сердце, трудно обнаружить смысл в рассматриваемом проекте. Так что же? Неужели планкой в медном бизнесе в Армении является производство и экспорт медного концентрата?
Правда, в нашей стране производится также небольшое количество нерафинированной (черновой) меди, причем на Алавердской медеплавильне. Последняя собственно и есть мини-завод, который даже при всех своих небольших мощностях работает нерегулярно, доставляя при этом немалые хлопоты своим негативным воздействием на природу и население города Алаверди и смежных территорий.
Китайцы всего этого не знать просто не могут, тем не менее приехали и обсудили вопрос. Кто их знает — этих китайцев…
<14>Забыть все?
Рассмотренный выше вопрос сродни другому, не менее важному: с некоторых пор в повестку «строек века» вброшен и проект строительства золото-аффинажного завода, который будет выпускать банковские слитки. Но и здесь вопрос упирается в необходимое для рентабельной деятельности предприятия количество золота.
И ЕСЛИ В ВОПРОСЕ МЕДИ КРИТИЧЕСКАЯ МАССА ЭТОГО СЫРЬЯ вроде бы имеется либо близка к тому, чтобы рискнуть, то с золотом все обстоит гораздо сложнее. Вряд ли мы в обозримом будущем сможем производить такое количество золотого сырья для безубыточной деятельности аффинажного завода — даже с учетом Амулсарской программы.
А о том, чтобы завозить в Армению недостающие объемы золотого сырья, и речи быть не может. Да и откуда, если по всему миру аффинажеры стоят с сильно недозагруженными мощностями? В Грузии «сплав Доре» вообще не производится. Иран производит, но немного — порядка 15-20 тонн. В России и Казахстане сами ищут, где бы прикупить сырье для загрузки своих обширных аффинажных мощностей.
В настоящее время в мире идет жесткая конкуренция между странами и компаниями за золотое сырье для переработки на своих аффинажных производствах, и если собственных запасов для этого недостаточно, то лучше об этом вообще забыть. К примеру, как потенциальному армянскому предприятию конкурировать с 4 золото-аффинажными заводами в одной только Швейцарии, которые работают по высоким международным стандартам и, в частности, по правилам «четырех девяток» (готовая продукция имеет пробу 99,99%)? В прошлом году одна швейцарская Metalor Technologies SA (г. Нюшатель) переработала 300 тонн золота при мощностях в 650 тонн. А вместе с тремя другими расположенными поблизости аффинажными компаниями суммарные перерабатывающие мощности составляют около 3000 тонн в год! Куда уж нам с производимыми в Армении и пригодными для аффинажа 5-6 — ну, пусть 7 тоннами в год?
Так что же? Неужели планкой для Армении по золоту является производство и экспорт «сплава Доре»?
Вардан Сирмакеш, известный своими многочисленными деловыми проектами в Армении, всего этого не знать просто не может. И тем не менее владелец известного часового бренда Franck Muller, «АрмСвисс» и «Арцах» банков, а также инициатор выращивания в Нагорном Карабахе черной икры на экспорт декларирует намерение построить в Армении золото-аффинажный завод. И парадокс в том, что сам он — армянин именно швейцарский, живет и работает в стране, как уже указывалось, «большого аффинажа и 4 девяток».
А кто его знает — этого Сирмакеша. И что у него на уме на самом деле…