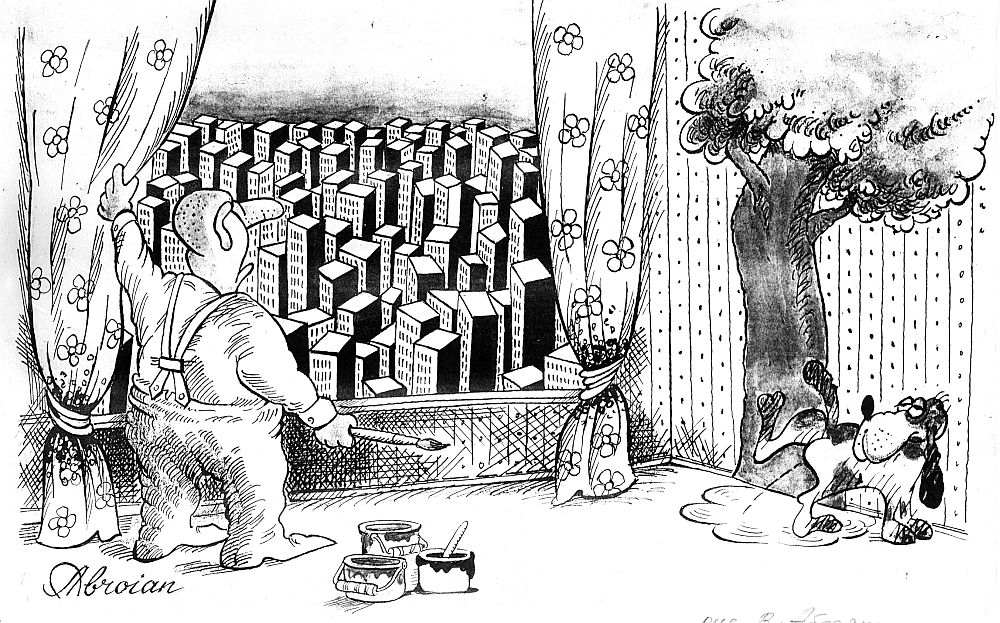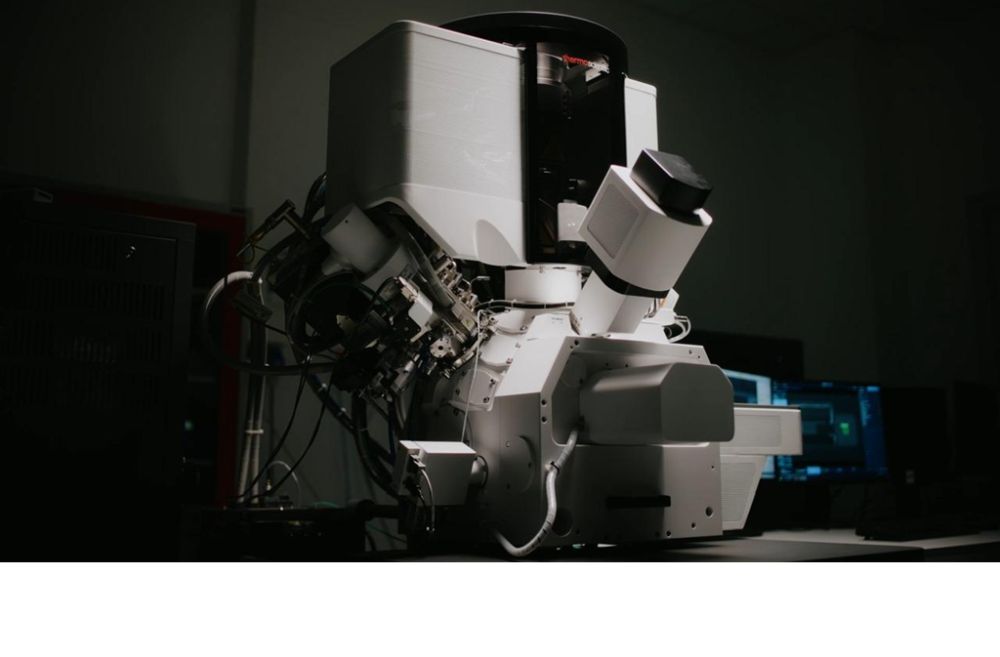Иногда отсутствие международного договора между странами о выдаче граждан полезнее для соблюдения прав и свобод человека, чем наличие устаревшего документа. Поверьте, это так, хотя и выглядит парадоксом.
Так как страсти вокруг задержания и фактического отказа в выдаче гражданина России Сергея Миронова по запросу США несколько улеглись и, вероятнее всего, рассуждения на эту тему вряд ли причинят ему какой-либо вред, хотелось бы обратить внимание читателя на вопрос экстрадиции вообще.
ОГОВОРЮСЬ, ЧТО ОСВОБОЖДЕНИЕ С. МИРОНОВА СЧИТАЮ ЗАКОННЫМ, обоснованным, логичным, и как юрист такое решение только приветствую, поскольку в правовой плоскости иное было бы полнейшим абсурдом, а комментировать возможную политическую подоплеку происшедшего просто не желаю, предоставляя это специалистам другой области.
Факт остается фактом, что правоохранительная система Республики Армения сработала оперативно, а судебная в лице судьи Мнацакана Мартиросяна проявила принципиальную приверженность букве закона, а не домыслам и каким бы то ни было инсинуациям. Такое решение можно только приветствовать и ставить в пример при дальнейших рассмотрениях. Именно поэтому я начал с этого случая, который является хорошим поводом для акцентирования внимания на вопросах, связанных с соблюдением основных прав и свобод задержанного при исполнении запросов о выдаче.
Наиболее остро, по моему мнению, обстоит дело с задержанием граждан России и Республики Армения на территории друг друга по запросам в связи с розыском страны постоянного проживания и/или гражданства в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года) и двусторонних договоров сторон. Думаю, что Европейская конвенция, Минская конвенция и заключенные на их основе двусторонние договора несколько устарели и требуют пересмотра в части избрания иных мер пресечения (залог, домашний арест, подписка о невыезде, поручительство, электронные средства контроля передвижения и т.п.), кроме как заключения под стражу, а также предоставления более широких возможностей стороне, исполняющей запрос, для рассмотрения дела по существу (суд стороны, исполняющей запрос, в настоящее время таких полномочий не имеет), но только при наличии письменного волеизъявления лица, в отношении которого направлен запрос. Кроме того, ставшая уже традиционной медлительность (зачастую по вполне понятным и объективным причинам) при исполнении запросов никоим образом не стыкуется с положениями части первой статьи 6-й Европейской конвенции по правам человека (Право на справедливое судебное разбирательство):
«1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона…»
НЕ МЕНЕЕ ВАЖНА В СВЕТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ финансовая составляющая исполнения запросов. Так, например, нередко задержанный гражданин на территории иностранного государства изъявляет желание незамедлительно и самостоятельно за свой счет отбыть в страну своего гражданства и предстать перед судом, однако после заключения под стражу бывает фактически лишен такой возможности, а после возвращения на родину к нему еще и предъявляют иски исполнители запроса в размере, многократно превышающем стоимость билета. Таким образом, человек по воле обстоятельств бывает вынужден терпеть не только лишения и страдания, но и нести неоправданно завышенные расходы, рассчитанные внутригосударственными учреждениями для его же взятия под стражу и сопровождения.
Даже не сомневаюсь, что у профессионалов, читающих эти строки, реакция возникает однозначная: «Да о чем ты говоришь? Все это и так предусмотрено международными договорами, и мы можем привести массу примеров, когда именно так и было сработано». Тем не менее улучшающие положение задержанного нормы в большинстве случаях не работают, и здесь я позволю себе возразить, но, чтобы не отвлекать читателя на вероятную узкоспециальную полемику коллег-оппонентов, выражаю готовность к обсуждениям на любом уровне.
Совершенно очевидно, что камнем преткновения, во-первых, является зачастую неоправданное избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, а во-вторых, возможное использование правовых рычагов для несправедливого регулирования инцидентов, никак не связанных с правом.
С сожалением должен отметить, что указанные проблемы существуют у нас и на внутригосударственном уровне, когда, согласно заявлениям уважаемого доктора правоведения Геворга Даниеляна, в результате осуществленной реформы в связи с недовольством об удовлетворении прокуратурой ходатайств следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в количестве 65% от общего числа, в настоящее время суды выносят такие решения в 96% случаях, а чуть ли не каждый пятый заключенный заявляет о преследованиях и гонениях в свой адрес по политическим мотивам, хотя в действительности на выборных должностях вряд ли мог бы составить конкуренцию председателю самого посредственного кондоминиума. Между тем содержание под стражей одного заключенного обходится налогоплательщикам в 186 тысяч драмов ежемесячно, а потребительская корзина обычного гражданина составляет, если не ошибаюсь, 32 тысячи драмов, хотя очевидно, что деяниями не всех подозреваемых обществу причинен ущерб в размере, превышающем само их содержание под стражей.
Подводя итоги, желаю обратиться к президенту Армении Сержу Азатовичу Саргсяну сразу с двумя предложениями:
1) РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ широкомасштабной амнистии, затрагивающей интересы абсолютно всех без исключения подследственных, заключенных и осужденных, поскольку в институт прощения, по-моему, заложен основной божеский принцип неизбирательного подхода, в силу которого население страны еще больше уверовало в период визита в Армению Папы Римского Франциска;
2) ПОРУЧИТЬ РАССМОТРЕТЬ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ внесения предложений для возможного внесения изменений в тексты международных договоров Республики Армения о правовой помощи и выдаче, а также УПК РА в части более широкого применения альтернативных мер пресечения, не связанных с фактическим лишением свободы.