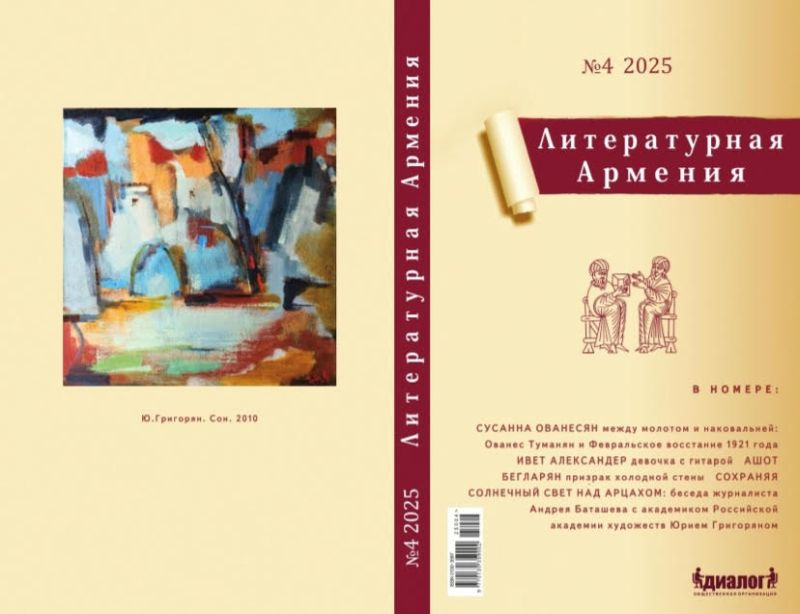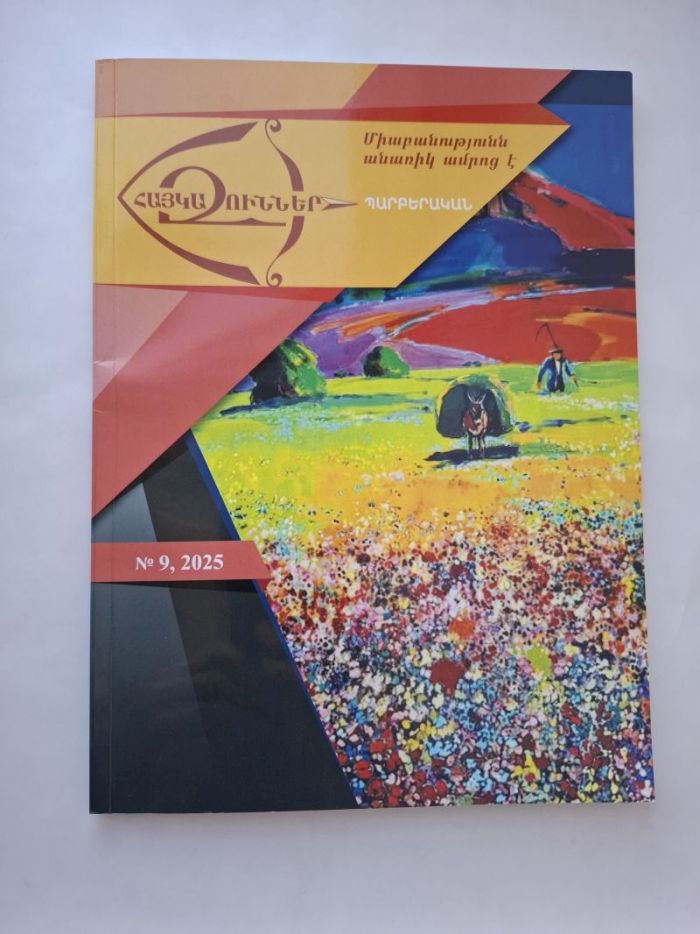В.А. Моцарт, И.С. Бах, Св. Григорий Просветитель, Св. Григор Нарекаци. На сегодняшний день список постановок Рудольфа Харатяна пополнился еще одним спектаклем в жанре биографического балета или, точнее, балета-портрета. На сей раз его герой – великий шансонье Шарль Азнавур. Постановки такого жанра, осуществленные хореографом, можно условно разделить на два типа: балеты, в которых более или менее отражены биографические факты из жизни вышеперечисленных деятелей, и балеты, в которых образ героя воплощен обобщенно. В балете La Boheme эти два типа объединены. Здесь можно отметить как некоторые факты эпизоды из жизни Азнавура, так и обобщенные, иносказательные фрагменты.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАРТИТУРА – 12 ПЕСЕН ИЗ РЕПЕРТУАРА ШАНСОНЬЕ в его же исполнении (балет идет под фонограмму). Песни отобраны и расположены по принципу соответствия их содержания действиям и переживаниям героя: от появления честолюбивого молодого человека в художественной жизни Парижа – на Монмартре, его неуклонный путь по ступеням славы до полного триумфа.
На первый взгляд, новая постановка Харатяна отличается от других его балетов. Здесь нет символических знаков и композиций, вклинивающихся и сочетающихся с элементами и композициями современного классического танца. Исключением до настоящего времени был спектакль La Revanshe del Tango. Однако, постепенно вникая в детали и суть действия, начинаешь понимать, что все компоненты спектакля – сценография, тип использования сценического пространства, сценические атрибуты и, естественно, действующие лица – образы и пластика, отдельные движения – все функционально и несет определенную смысловую нагрузку.
Действие развивается в трех плоскостях. Сама сцена разделена на две части – условно «партерную», далее как бы второй приподнятый пласт и задник. На плоскости партерной части развивается основное действие.
В последнее время все чаще в театральных постановках используется проекция на задник фото и видео. Иногда этого бывает так много, что отвлекает от основного сценического действия, и в результате полностью сосредотачиваешься на заднике. Чаще всего это не помогает, а мешает восприятию спектакля. Ведь современный зритель привык в основном смотреть на экран телевизора, монитор компьютера и экран смартфона. И, увы, далеко не всегда «экранное» действие сочетается с действием сценическим и даже никак не дополняет его.
В постановке La Boheme задник сцены обыгран с тонким художественным вкусом: легкий графический рисунок базилики Святого Сердца на Монмартре и цветное освещение, которое в основном является фоном, дополняющим сценическое действие. Только в третьей и предпоследней сценах задник становится подвижным. В третьей сцене – на Монмартре — действие развивается как «трехголосное», трехслойное. На заднике калейдоскопически сменяются тени, исполняются парные танцы, чередующиеся с тенями пешеходов, падающих и взлетающих людей. В то же время на «партерной» и приподнятой сценах развивается пластический дуэт – герой внизу, а его возлюбленная на возвышенности. Постепенно тени исчезают, превращаясь в реальные фигуры, которые спускаются на основную сцену, в целом образуя переходящий из виртуального в реальный многоликий Монмартр.
В ПРЕДПОСЛЕДНЕЙ СЦЕНЕ НА ЭКРАН ПРОЕЦИРУЕТСЯ ВИДЕОФРАГМЕНТ – Шарль Азнавур, исполняющий песню, а герой на сцене исполняет пластический монолог, обобщенно передающий смысл, содержание и образ песни.
Подлинная функция второй приподнятой плоскости проявляется в завершающей картине – это сцена на сцене, «театр внутри театра», где герой, достигший славы, раскланивается под аплодисменты и хореографически воплощает песню La Boheme, а «партерная» сцена – это зал со зрителями. В конце герой спускается на основную сцену, где продолжает свое пластическое пение. В целом возникает ассоциация со знаменитым высказыванием Шекспира «Весь мир – театр, а люди в нем актеры…»
На сцене почти нет бутафории, за исключением второй сцены, где фигурирует кровать, но основным и многофункциональным бутафорским реквизитом становятся стулья, которые воспринимаются то как скамейки на Монмартре, то как зрительские кресла в зале. В восьмой сцене при помощи стульев представлена хорошо известная детская игра, когда стульев становится на один меньше, чем принимающих участие в игре. Тот, кто не успел сесть, выбывает из игры. Побеждает последний, успевший сесть на последний оставшийся стул. Эта детская игра становится символическим действием борьбы за первенство, которое прошел великий шансонье.
В спектакле нет кордебалета в его обычном понимании, т.е. массы, сопровождающей танцы героев, хотя в нем задействованы более 20 актеров, каждый из них персонифицирован. Иногда это очень маленькие эпизодические персонажи (велосипедист, катающиеся на роликах, акробаты, цветочница и т.д.). Местами, объединяясь в одной сцене, персонажи все же не становятся сопровождающей массой, но создают многоликий облик богемы.
В целом балет решен языком современного классического балета, включая его формы дуэтов, трио, квартетов, монологов и тип «коды» — обычного финала классических балетов, где исполняются самые виртуозные па. Однако эта «кода» расположена не в финале, как принято, а в середине (N7) балета. Впрочем, перестановка частей традиционных форм классического балета является одним из основных приемов, свойственных композициям, созданным Харатяном. Отметим также совмещение и чередование классических движений балета с акробатическими, включение своеобразной трактовки цыганского танца в эпизоде, где исполняется известная песня Азнавура – переработка романса «Две гитары».
КОСТЮМЫ И СЦЕНОГРАФИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ АСТХИК СТЕПАНЯН, ассоциируются с красочными гравюрами, выполненными живописцами Монмартра.
Поскольку в целом постановку можно интерпретировать как монобалет в «многоликом интерьере», то, естественно, в первую очередь нужно отметить исполняющего заглавную роль Жан-Шарля – Гарегина Бабеляна. На его долю выпала огромная нагрузка. Партия технически сложная и объединяет все действия других исполнителей. Бабелян на протяжении последних лет зарекомендовал себя как виртуозный и выразительный исполнитель. Он точно воплотил многогранный образ героя. Отметим также Татевик Григорян, исполнившую роль возлюбленной Жан-Шарля – мечтательной, лиричной и вместе с тем раскованной, местами эксцентричной, короче — типичного дитя Монмартра.
К достоинствам балета относится и то, что в его составе в основном молодые исполнители, которым в настоящей постановке предоставлена возможность проявить себя.
Новый балет Харатяна безусловно должен войти в число репертуарных спектаклей Национального театра оперы и балета им. Спендиарова.
Назеник САРГСЯН, старший научный сотрудник Института искусств НАН РА, доктор искусствоведения