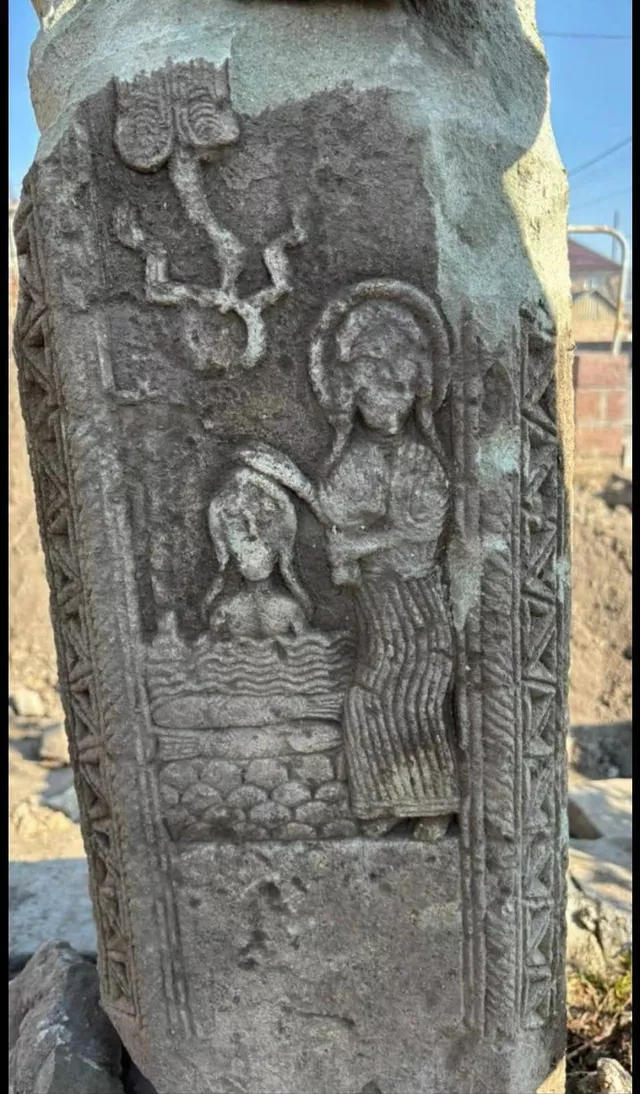В этом году исполняется 2800 лет Еревану. Сегодня попытаюсь рассказать о человеке, который всю свою жизнь посвятил этому городу.
Географический центр Европы — то ли литовская деревня Бернотай, то ли белорусский Полоцк. Географический центр Азии — то ли тувинский Кызыл, то ли уйгурский Урумчи. Мужайся, XXI век, век высоких технологий, в консервативной географии запримечены разночтения!.. А не угодно ли налегке совершить переход из Европы в Азию, без всяких там виз и формальностей таможенного контроля? Намерены ли вы вживую, а не по книгам постичь конгломерат суетного наследия мистического Востока с рационалистическими традициями мифологического Запада, не утомляя себя многочасовыми перелетами и пересадками? Польститесь ли на то, чтобы на высоте свыше 1000 метров над уровнем моря втянуть в свои легкие густое благоухание азиатского базара, перебиваемое утонченным ароматом европейского рынка?.. Проделать все это возможно!..
ПОЕЗЖАЙТЕ В ЕРЕВАН! ПРОЙДИТЕСЬ ПО ШИРОКИМ ПРОСПЕКТАМ и улицам города: неторопливо, от перекрестка к перекрестку, от крепостных стен древнейшего Эребуни к средневековым церквам, от кривого глинобитного переулка к Матенадарану, от тенистого тупика к Театру оперы и балета, от Голубой мечети к Историческому музею… Загляните на огонек в какой-нибудь гостеприимный дом. Затем, несмотря на то что вас там уже до отвала накормили всякими вкусностями, сразу — в следующий, хлебосольный. Ну а если хватит сил, можно зайти и в третий, не менее радушный…
Отпейте глоток ереванской воды, отведайте свежий лаваш с армянским сыром, взгляните на ереванское небо — перед глазами непременно откроется Знак Вечности, и ваше желание исполнится! Потому что Ереван со всей Арменией, невзирая на фатальную аберрацию географов, — начало Европы и начало Азии. Но Армения — «страна камней», в отличие от России, не Евразия, а предел одного дивного материка, за которым с умопомрачительной быстротой начинается другой материк, чарующий.
Спорадически я называю родную мне территорию междумирьем. И нисколько в этом не сомневаюсь!.. Признайтесь, ведь тут что-то да есть, если библейский ковчег пристал к горам Араратским (5165 м), а не к подоблачной Джомолунгме (8850 м). Несколько лет назад, пролетая в самолете над Гималаями, я подумал, что на его хребтах могла бы разместиться целая эскадра ковчегов, но Гималайские горы находятся под эгидой буддистского предания: у подножия Гималаев, в долине реки Ганг, родился Сиддхарти Гаутама… Не причалил Ной и на сравнительно недальнем от Арарата зубчатом Эльбрусе (5642 м).
Любовался я и макушкой Кавказских гор, будто намеренно сотворенных природой для языческих мучений Прометея… Остался правее на «навигационной карте» Ноя и иранский Демавенд (5604 м), к слову, точно такой же стратовулкан, как и Арарат. И эту ледниковую вершину я лицезрел с восторгом. Нет, и она не подходит для того, чтобы стать пристанью ковчега: на Демавенде разве что может говорить Заратустра!..
Ведомый божьей волей доплыл Ноев ковчег до Арарата, названного в XIII веке Рубруком, фламандским монахом из ордена миноритов, «матерью мира». И, когда окончательно спала вода, Ной, любуясь красотой раскинувшейся вокруг равнины, на землях армянских возродил жизнь. Так я думаю, потому что я армянин, армянин с 12 мая 1949 года, то есть со дня своего рождения. Стаж, кажется, более чем приличный. Появился я на свет в четверг, незадолго до полуночи, в ереванском роддоме имени бездетной вдовы Ленина — Надежды Константиновны Крупской и сразу же глотнул бескорыстно дурманящий воздух Еревана. Моя бабушка любила повторять, что дед, узнав о появлении внука-первенца, зазывал с балкона второго этажа дома по ул. Терьяна, 23 прохожих на пиршество с радостными возгласами: «Родился еще один армянин, родился ереванец!..» А на следующий день (похмельем в те времена в Армении почти никто не страдал) с головой окунулся в работу.
ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ГОЛОСЛОВНЫМ, ПРИВЕДУ ОДНУ ЦИТАТУ: «Отдел по делам архитектуры Городского совета развернул работы по развитию плана городской застройки. Новый Генплан Еревана (1949-1959 гг.) был создан усилиями большой группы архитекторов, инженеров, экономистов и других специалистов (автор проекта — архитектор Н.А.Заргарян, технико-экономический раздел был разработан экономистом С.В.Акопджаняном при участии Г.А.Раппопорта, С.А. Григоряна и И.К.Стрельникова). Ими было в первую очередь изучено состояние экономической базы с учетом перспектив развития промышленности и культуры, определены научные основы размещения новых промышленных предприятий, жилых массивов и других объектов, уточнены направления нового расширения территории».*
К слову, мой дед при разработке генплана повторял в высоких кабинетах: «Столица должна не расширяться, а столица должна обновляться!» Его инициативу поддержали и в Академии строительства и архитектуры СССР, однако тогдашнее партийное руководство Армянской ССР со всей марксистской прямотой страдало большевистской гигантоманией и торжественно рапортовало в Москву, что по темпу роста Ереван занимает второе место в Советском Союзе, после… металлургического Челябинска.
К началу 1980-х число жителей Еревана перевалило за миллион. Да и сегодня Ереван имеет то, что имеет: кажется, почти половина населения Армении — ереванцы. Не берусь судить, хорошо это или плохо, приведу сравнение: население третьего города США, Чикаго, около 3 миллионов, а территория Большого Чикаго — 28,16 кв. км. Эти цифры ни о чем не напоминают?
Биография моего деда типична для армянской интеллигенции тех лет, переехавших на родину. Степан Акопджанян, ровесник XX века, родился в Ахалцихе в семье выходцев из Эрзерума. Его отец, Вагаршак, был управляющим банка, мать, Софья, владела пятью языками, написала повесть на армянском о трагической гибели старшего сына. (Повесть была издана в Тифлисе.) После смерти матери Степана в 7 лет отправили в Москву в Лазаревскую гимназию. В 15 лет он поступил в Московский коммерческий институт. Кстати, его сокурсником был писатель Борис Пильняк. Казалось, полоса бед уже позади, но неожиданно из Ахалциха приходит весть о смерти отца. Степану пришлось учиться и зарабатывать себе на жизнь, да и поддерживать осиротевших младших братьев и сестер репетиторством, а по вечерам быть статистом в Большом театре. Он год проучился и в Московском университете, но в 1921 году решил навсегда переехать в Эривань. С первых же дней молодой специалист был востребован в республике, принимал самое активное участие в становлении города.
С МОИМ РОДНЫМ ГОРОДОМ МЕНЯ ЗНАКОМИЛ ДЕД. Историю города он знал досконально, как-никак написал первую на русском языке книгу о Ереване (Айпетрат, 1940), «с ценным краеведческим материалом», отмеченной в Краткой географической энциклопедии. Кем была основана крепость Эребуни, какой была глинобитная Эривань и когда город получил армянское звучание — Ереван, я узнал из дедовской книги.
Но ведь город — это не только архитектура, парки и скверы, город прежде всего — его жители. Быт, нравы, культура людей. Ереванские интеллигенты еще лет 60-70 назад хорошо знали друг друга. Я помню времена, когда я прогуливался с дедом по Еревану и знакомые при встрече вежливо приподнимали шляпу, а встретив знакомую, галантно целовали ручки.
Я помню времена, когда на улицах можно было услышать чистую армянскую речь и грамотную беседу на русском. Я помню времена, когда приятели деда свободно читали литературу на французском, английском и немецком. Я помню времена, когда по улицам бродил Карабала, предлагая цветы влюбленным, помню и глубокое уважение к нему со стороны прохожих. Я помню времена, когда бедность не считалась пороком, а показное богатство вызывало неприкрытую издевку. Я помню времена, когда честное слово ценилось больше, чем любой договор, закрепленный печатью и подписями.
Но помнить — вовсе не означает призывать к прошлому. Просто было и такое время в Ереване!.. И мой артистичный и принципиально беспартийный дед — из того времени. Степан Акопджанян — профессионал до мозга костей, страстно отстаивая свою позицию о развитии Еревана, чем и нажил себе немало врагов среди чиновников, всегда сторонился высокого начальства, поэтому его обходили наградами и званиями. Но он искренне и преданно дружил со многими знаменитостями. Гостями квартиры дома на Терьяна, 23 часто бывали актеры Рачья Нерсесян и Авет Аветисян, художники Акоп Коджоян и Ваграм Гайфеджян, гинеколог Маркарян и языковед Капанцян, архитекторы Геворк Кочар и Григорий Агабабян, Микаел Мазманян и Эдуард Папян… А когда Сурен Кочарян — непревзойденный мастер художественного слова приезжал в Ереван, то первым делом направлялся к деду.
МНОГО УРОКОВ Я ВЫНЕС ИЗ БЕСЕД МОЕГО ДЕДА С ЕГО ДРУЗЬЯМИ, но самый главный урок никогда не забуду: «Настоящий армянин (споры о котором не прекращаются и до сегодняшнего дня) ежечасно творит добродетель. А тот, богач или бедняк, который лишен добродетели, армянин ущербный». Знаю, кое-кто не согласится со словами деда, однако многие поймут, что он имел в виду. Мой дед, прожив насыщенную и интересную жизнь, честно и с большим вкусом, скончался в 1975 году и оставил мне богатое наследство: любовь к книгам, порядочность по отношению к людям, страсть к путешествиям… И сегодня, спустя много лет, я не перестаю повторять самому себе: если и есть что-то хорошее во мне, то от деда, а все остальное, увы, от меня самого.
Относясь с огромным пиететом к Аврааму Линкольну, никак не могу согласиться с его фразой: «Я не знаю, кем был мой дед, гораздо больше меня занимает, кем будет его внук». Но не так у армян: каждый армянский внук знает, кем был его дед, и старается во всем походить на отца своего отца. Более того, знает, кем был и его прадед. Мне, к сожалению, так и не удалось проследить генеалогическое древо дальше прапрадеда, который юношей в должности драгомана поступил на службу в посольство Российской империи и дослужился до статского советника.
Для чего все это пишу? В первую очередь для своих внуков и прежде всего для младшего внука Степана, рожденного в Лос-Анджелесе. Он хотя и американец, но с сильными армянскими корнями. Мой внук Степан удивительно похож на моего деда Степана в детстве. Похож и внешностью, и пытливостью, и трудолюбием, и умом, и твердым характером. Одним словом, настоящий е-ре-ва-нец! Меня нередко укоряют в том, что я покинул Ереван. Да не покидал я свой родной город, я пустился в долгое путешествие. Попутешествовал немало. По подсчетам моей PR Хелен Пеппард, я побывал в 103 городах мира. И без всякого квасного патриотизма, без национального чванства, без ностальгических вздохов должен признать, что такого сильного нрава, такого яркого первородства, такой мужественности, как в Ереване, я еще нигде не встречал. Город строили наши деды и прадеды. Поэтому и сияет в ереванском небе Знак Вечности! Уверен, ереванцы об этом не забывают!
Рафаэль АКОПДЖАНЯН, Сан-Франциско
*А.П.Симонян. Ереван. Очерк истории, экономики и культуры города. «Митк», 1965, с. 209.