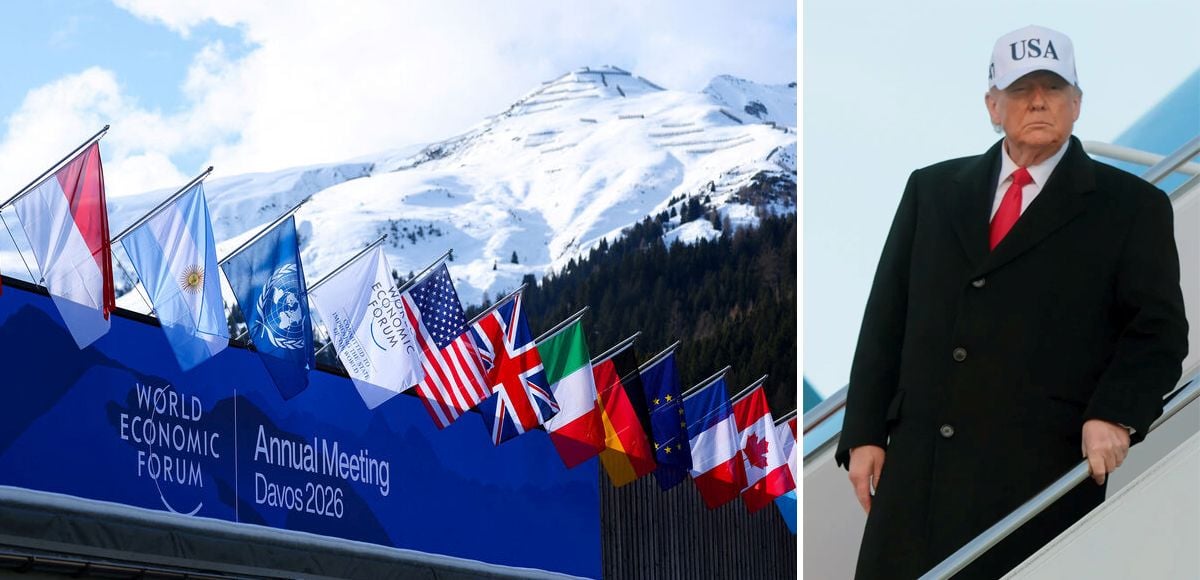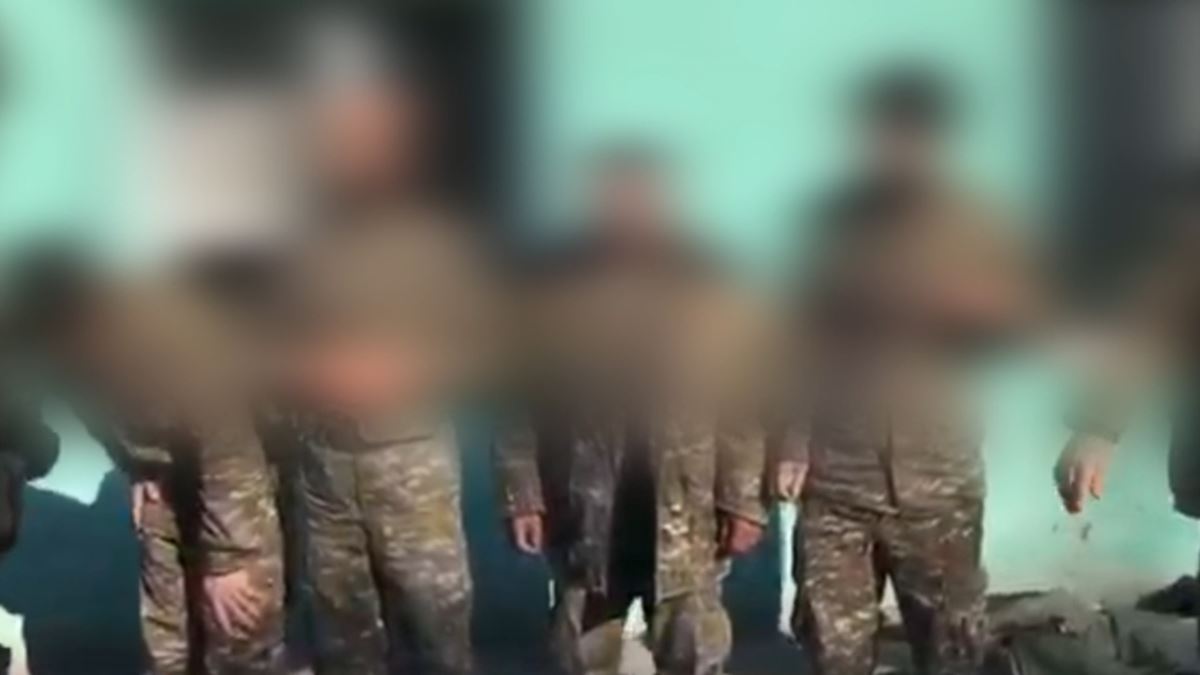«На самом деле никакого феномена «китайского чуда» нет, процесс был абсолютно закономерным», — заявил в интервью «ГА» директор Научно-образовательного фонда «Нораванк» Гагик АРУТЮНЯН.
— Г-н Арутюнян, 21 ноября в Ереване пройдет международная научная конференция, приуроченная к 40-летию политики реформ Китайской Народной Республики, организаторами которой стали Научно-образовательный фонд «Нораванк» и Посольство Китая в Армении. Почему нам важен опыт Китая?
— В «Нораванке» давно уже проводятся междисциплинарные исследования, направленные на выявление критических структур и сфер Армении и других стран и оценку их важности. В результате мы пришли к выводу, что с точки зрения национальной безопасности решающим является научно-технологическая духовная сфера, потому что именно она обуславливает развитие всех остальных направлений. И в этом контексте мы, конечно, не могли обойти вниманием так называемый феномен «китайского чуда», когда нация-государство за короткий исторический период — за 40 лет — совершило гигантский скачок развития. На самом деле факт тот, что в действительности никакого чуда не произошло: процесс был закономерным и обусловлен китайским цивилизационным потенциалом.
— Расскажите об этом подробнее.
— До нашей эры численность населения Китая и Греции была почти равная, около 10-12 миллионов человек. Численность греков сегодня примерно такая же, тогда как в современном Китае проживает около полутора миллиардов человек. Этот феномен иногда объясняют другими факторами, но, по сути, он обусловлен присущим китайцам высоким уровнем духовно-интеллектуальной и стратегической мысли и, самое главное, применением в китайской цивилизации «временнóй триады» — единства прошлого, настоящего и будущего, выражающегося в формулировках: «забвение истории — это предательство» или «стратегия — это захват будущего». Кстати, единое восприятие «временной триады» создает сегодня большие затруднения у конкурентов Китая — не случайно один известный политический деятель жаловался, дескать, «наши подходы и подходы китайцев ко времени абсолютно разные». Словом, китайские стратеги давно уже пришли к выводу, что самая критическая сфера — это научно-духовная.
— Каким образом это выражается в цифрах? Есть данные?
— Есть, конечно. Расходы сферы научно-исследовательских экспериментально-конструкторских разработок (НЭР) в 2016 году составляли $1,9 триллиона, что составляло 1,74% от мирового ВВП (согласно паритету платежеспособности). В этой сфере самые большие расходы нынче делают США — $514 млрд (26,4% от мировых расходов НЭР), на втором месте Китай — $396 млрд (20,3% от мировых расходов НЭР). В то же время показатель США в 2012 году составил $447 млрд и за 4 года увеличился на $67 млрд, тогда как расходы КНР в 2012 году составили $232 млрд, то есть за 4 года увеличились на $164 млрд, что в 2,4 раза больше, чем расходы США.
— За тот же отрезок времени — 4 года…
— Да. Эти тенденции свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем инвестиции в сфере НЭР в Китае превзойдут американские показатели. В подтверждение сказанного отметим, что уже по количеству заявок на патенты Китай превосходит США, а в сфере блокчейн-технологий 56% заявок во Всемирную организацию интеллектуальной собственности поступило из Китая и только 22% — из США. Более того, в геополитическом плане сегодня мы видим, что глобальный геополитический центр перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, где Китай, несмотря на существующие между странами региона разногласия, в некоторых сценариях может консолидировать вокруг себя как регион, так и другие страны — со всеми вытекающими отсюда выводами. Вспомним также, что в 1978 году, когда свою активную деятельность начал Дэн Сяопин, ВВП КНР составлял всего $215 млрд, тогда как сегодня составляет около $12 триллионов, то есть увеличился примерно в 55 раз.
— И как бы вы это прокомментировали с идеологической точки зрения?
— Как известно, в 70-80-е годы прошлого века в странах с однопартийной системой управления был заметен определенный кризис. И если опыт решения возникших в СССР проблем принял характер горбачевской перестройки и завершился тяжелыми последствиями и распадом страны, то события в КНР развивались иначе. В 1977 году под руководством Дэн Сяопина началась «пекинская весна», которая привела к укреплению государства и крупным достижениям во всех сферах общественно-политической жизни. Кстати, именно в этот период в Пекине была создана комиссия на высоком уровне, которая изучала советский опыт во избежание совершенных ошибок. Примечательно, что, например, Конституция новой республики — Российской Федерации — запрещала понятие «государственная идеология» и дала толчок всеобщему либерализму, не учтя, что «тотальная победа рынка опаснее утверждения авторитарной социалистической идеологии». Между тем, согласно Сяопину, «не стоит сковывать себя идеологическими и абстрактными спорами, не важно, какое название дается всему этому, — социализм или капитализм». Подобный алгоритм предполагает создание наиболее эффективной мультиидеологической системы. Принято считать, что существуют две универсальные идеологии: социалистическая (главный постулат — принципы социального равенства в обществе) и либеральная (в основу положено верховенство свободы личности). Они универсальны, поскольку отмеченные постулаты могут быть использованы всеми обществами независимо от их этноконфессиональной принадлежности. В отличие от двух указанных идеологий, идеологии национально-консервативного толка опираются на присущую конкретному обществу национально-цивилизационную систему ценностей и традиции.
— Но ведь идеологии — это не нечто законсервированное раз и навсегда.
— Безусловно, с течением времени они подвергаются изменениям. Однако испытания берут начало тогда, когда в обществе какая-либо идеология приобретает монополию и абсолютный приоритет. Вспомним опять же Советский Союз. Между тем общества, которым удается в обдуманных пропорциях совмещать либеральную, социалистическую и национально-консервативную идеологию, значительно развиваются и прогрессируют. Подчиняющаяся этой закономерности мультиидеологическая система получила название «идеологическая триада», и она увеличивает всевозможные и в первую очередь духовные и интеллектуальные ресурсы общества, а политическую систему делает более гибкой как во внешних, так и во внутренних отношениях. Например, эффективной мультиидеологической системой является британская модель. А вот США, переняв британскую политическую логику, проигнорировали важность социалистической идеологии. В результате в этой стране абсолютизация либерализма вызвала серьезные проблемы, и США начали уступать позиции мирового лидера.
— Вернемся к Китаю…
— Всего три десятилетия назад моноидеологический Китай по всем критериям отставал от ведущих стран. Ситуация резко изменилась, когда Дэн Сяопин внедрил в однопартийную систему постулаты либерализма и национальной консервативной (конфуцианской) идеологии. Примечательно, что наряду с этим сохранились все исходящие из руководящей социалистической идеологии привилегии. Однако даже в этом универсальном учении использовались постулаты философа и мыслителя V века Мо Цзы, которого считают учредителем китайского социализма. Иными словами, социализм был адаптирован к китайским традициям и менталитету. В результате Китай стал сверхдержавой и лидером в экономической, военной сфере, а также в сфере технологий. Достижения КНР обусловлены также тем, что в административно-политической системе действуют принципы меритократии (власти достойных), согласно которым руководящие должности должны занимать наиболее способные и подготовленные личности.
— Г-н Арутюнян, 21 ноября в Ереване пройдет международная научная конференция, приуроченная к 40-летию политики реформ Китайской Народной Республики, организаторами которой стали Научно-образовательный фонд «Нораванк» и Посольство Китая в Армении. Почему нам важен опыт Китая?
— В «Нораванке» давно уже проводятся междисциплинарные исследования, направленные на выявление критических структур и сфер Армении и других стран и оценку их важности. В результате мы пришли к выводу, что с точки зрения национальной безопасности решающим является научно-технологическая духовная сфера, потому что именно она обуславливает развитие всех остальных направлений. И в этом контексте мы, конечно, не могли обойти вниманием так называемый феномен «китайского чуда», когда нация-государство за короткий исторический период — за 40 лет — совершило гигантский скачок развития. На самом деле факт тот, что в действительности никакого чуда не произошло: процесс был закономерным и обусловлен китайским цивилизационным потенциалом.
— Расскажите об этом подробнее.
— До нашей эры численность населения Китая и Греции была почти равная, около 10-12 миллионов человек. Численность греков сегодня примерно такая же, тогда как в современном Китае проживает около полутора миллиардов человек. Этот феномен иногда объясняют другими факторами, но, по сути, он обусловлен присущим китайцам высоким уровнем духовно-интеллектуальной и стратегической мысли и, самое главное, применением в китайской цивилизации «временнóй триады» — единства прошлого, настоящего и будущего, выражающегося в формулировках: «забвение истории — это предательство» или «стратегия — это захват будущего». Кстати, единое восприятие «временной триады» создает сегодня большие затруднения у конкурентов Китая — не случайно один известный политический деятель жаловался, дескать, «наши подходы и подходы китайцев ко времени абсолютно разные». Словом, китайские стратеги давно уже пришли к выводу, что самая критическая сфера — это научно-духовная.
— Каким образом это выражается в цифрах? Есть данные?
— Есть, конечно. Расходы сферы научно-исследовательских экспериментально-конструкторских разработок (НЭР) в 2016 году составляли $1,9 триллиона, что составляло 1,74% от мирового ВВП (согласно паритету платежеспособности). В этой сфере самые большие расходы нынче делают США — $514 млрд (26,4% от мировых расходов НЭР), на втором месте Китай — $396 млрд (20,3% от мировых расходов НЭР). В то же время показатель США в 2012 году составил $447 млрд и за 4 года увеличился на $67 млрд, тогда как расходы КНР в 2012 году составили $232 млрд, то есть за 4 года увеличились на $164 млрд, что в 2,4 раза больше, чем расходы США.
— За тот же отрезок времени — 4 года…
— Да. Эти тенденции свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем инвестиции в сфере НЭР в Китае превзойдут американские показатели. В подтверждение сказанного отметим, что уже по количеству заявок на патенты Китай превосходит США, а в сфере блокчейн-технологий 56% заявок во Всемирную организацию интеллектуальной собственности поступило из Китая и только 22% — из США. Более того, в геополитическом плане сегодня мы видим, что глобальный геополитический центр перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, где Китай, несмотря на существующие между странами региона разногласия, в некоторых сценариях может консолидировать вокруг себя как регион, так и другие страны — со всеми вытекающими отсюда выводами. Вспомним также, что в 1978 году, когда свою активную деятельность начал Дэн Сяопин, ВВП КНР составлял всего $215 млрд, тогда как сегодня составляет около $12 триллионов, то есть увеличился примерно в 55 раз.
— И как бы вы это прокомментировали с идеологической точки зрения?
— Как известно, в 70-80-е годы прошлого века в странах с однопартийной системой управления был заметен определенный кризис. И если опыт решения возникших в СССР проблем принял характер горбачевской перестройки и завершился тяжелыми последствиями и распадом страны, то события в КНР развивались иначе. В 1977 году под руководством Дэн Сяопина началась «пекинская весна», которая привела к укреплению государства и крупным достижениям во всех сферах общественно-политической жизни. Кстати, именно в этот период в Пекине была создана комиссия на высоком уровне, которая изучала советский опыт во избежание совершенных ошибок. Примечательно, что, например, Конституция новой республики — Российской Федерации — запрещала понятие «государственная идеология» и дала толчок всеобщему либерализму, не учтя, что «тотальная победа рынка опаснее утверждения авторитарной социалистической идеологии». Между тем, согласно Сяопину, «не стоит сковывать себя идеологическими и абстрактными спорами, не важно, какое название дается всему этому, — социализм или капитализм». Подобный алгоритм предполагает создание наиболее эффективной мультиидеологической системы. Принято считать, что существуют две универсальные идеологии: социалистическая (главный постулат — принципы социального равенства в обществе) и либеральная (в основу положено верховенство свободы личности). Они универсальны, поскольку отмеченные постулаты могут быть использованы всеми обществами независимо от их этноконфессиональной принадлежности. В отличие от двух указанных идеологий, идеологии национально-консервативного толка опираются на присущую конкретному обществу национально-цивилизационную систему ценностей и традиции.
— Но ведь идеологии — это не нечто законсервированное раз и навсегда.
— Безусловно, с течением времени они подвергаются изменениям. Однако испытания берут начало тогда, когда в обществе какая-либо идеология приобретает монополию и абсолютный приоритет. Вспомним опять же Советский Союз. Между тем общества, которым удается в обдуманных пропорциях совмещать либеральную, социалистическую и национально-консервативную идеологию, значительно развиваются и прогрессируют. Подчиняющаяся этой закономерности мультиидеологическая система получила название «идеологическая триада», и она увеличивает всевозможные и в первую очередь духовные и интеллектуальные ресурсы общества, а политическую систему делает более гибкой как во внешних, так и во внутренних отношениях. Например, эффективной мультиидеологической системой является британская модель. А вот США, переняв британскую политическую логику, проигнорировали важность социалистической идеологии. В результате в этой стране абсолютизация либерализма вызвала серьезные проблемы, и США начали уступать позиции мирового лидера.
— Вернемся к Китаю…
— Всего три десятилетия назад моноидеологический Китай по всем критериям отставал от ведущих стран. Ситуация резко изменилась, когда Дэн Сяопин внедрил в однопартийную систему постулаты либерализма и национальной консервативной (конфуцианской) идеологии. Примечательно, что наряду с этим сохранились все исходящие из руководящей социалистической идеологии привилегии. Однако даже в этом универсальном учении использовались постулаты философа и мыслителя V века Мо Цзы, которого считают учредителем китайского социализма. Иными словами, социализм был адаптирован к китайским традициям и менталитету. В результате Китай стал сверхдержавой и лидером в экономической, военной сфере, а также в сфере технологий. Достижения КНР обусловлены также тем, что в административно-политической системе действуют принципы меритократии (власти достойных), согласно которым руководящие должности должны занимать наиболее способные и подготовленные личности.