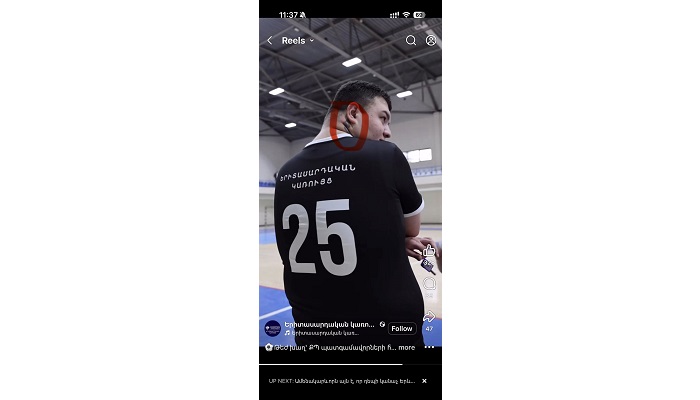Карабахскую хронику советские СМИ начали вести с 1988 года, хотя конфликт возник годом раньше. 1987-й ушел на наведение тумана и запудривание мозгов. С 1988-го закрывать глаза на происходившее стало невозможно. И вот уже тридцать лет тема не сходит с газетных полос и телевизионных экранов.
Как к Карабаху и «событиям вокруг него» отнеслись в главном правительственном официозе СССР, газете «Известия», можно узнать из стенографического отчета редакционной летучки (N872), состоявшейся 30 марта 1988 года.
Элла МЕРКЕЛЬ, дежурный критик:
— Одна из двух важнейших линий газеты — Нагорный Карабах. Мы освещали честнее, смелее, чем другие газеты. Сообщения из Армении были подробнее и эмоциональнее, чем из Азербайджана. Не знаю, политика это или возможности авторов. Достойно быть отмеченным и то, что редакция на первых порах оберегала С.Баблумяна и отправила на Кавказ сразу трех собкоров: Р. Лынева, С. Дардыкина, П. Гутионтова.
Кроме человеческих подробностей и журналистской объективности в их дневнике присутствуют сомнения и смятение. Разделенная боль — главное достоинство наших публикаций.
Так почему при всей нашей объективности армяне ополчились на центральную прессу, на «Известия»? Почему считают, что журналисты, в том числе и мы, увы, создаем превратное мнение о народе? Мы молчим об истории. Обращение к ней многое иначе бы объяснило широкой публике, и у армян не сложилось бы убеждения, что их намеренно представляют возмутителями спокойствия, экстремистами. Не следовало бы сводить причины всего к отсталости социально-культурной сферы и искусственному ограничению духовных связей с Армений. Это полуправда.
Ирина ОВЧИННИКОВА, корреспондент отдела школ и вузов:
— В день, когда в Ереван пришла наша газета со статьей Лынева и Дардыкина «Встречи после митингов», мне позвонила героиня моего давнего-давнего очерка и попросила поклониться в ноги авторам статьи и редакции. Она сказала: «Это не вся истина, но хотя бы первое приближение к ней». После статьи в «Правде» наше выступление было принято всем ее окружением с благодарностью.
Мэлор СТУРУА, политобозреватель:
— События в Нагорном Карабахе вызвали к жизни теорию, которую условно я назвал бы теорией заложничества перестройки. Разумеется, события ударили по перестройке. Разумеется, по перестройке ударяют и будут ударять многие другие негативные явления, которые происходят в нашей стране. В период бурного развития событий в Нагорном Карабахе, мне кажется, руководство редакции должно было собрать тех сотрудников газеты, которые представляют малые нации, чтобы «на слух» проверить публикации, посвященные этому вопросу. Дело в том, что некоторые фразы, кажущиеся вполне безобидными для уха представителей одной нации, могут взорваться динамитной шашкой для иного уха. Национальный камертон — очень тонкая штука.
Лев КОРНЕШОВ, заместитель главного редактора:
— Нам требуется значительно усилить внимание к освещению проблем национального строительства. Вот, например, печатаем в сегодняшнем номере фотографию Ташкентского метрополитена, а на снимке, конечно же, русская девушка.
…Думаю, что с Карабахом повторилась та же история, что и с Чернобылем. Нельзя было столько молчать. В Швеции у меня прошло до десятка пресс-конференций, дважды выступал по радио, встречался со многими журналистами, выступал с лекциями о перестройке и гласности. И всегда везде один и тот же вопрос: что же это за гласность, если у вас в прессе с таким запозданием стали писать о Карабахе? Хорошо, что за день до отъезда я встретился с нашими журналистами, которые только что вернулись из Баку и Еревана, и расспросил их.
Игорь КАРПЕНКО, заместитель ответственного секретаря:
— Думаю, наши корреспонденты прошли по острию ножа, а «Известия» лучше, честнее других тащили эту тему. Никто из нас не может сказать, кто прав, кто виноват, так можно весь мир перессорить. В Степанакерте в один клубок сплелись и национальные, и религиозные, и территориальные вопросы. Никто не предложил и не мог предложить людям реальной программы. В том числе и сами участники митингов. Поэтому необычайно сложно требовать больше гласности в освещении этих событий — надо знать, с чем выходить к людям, как объяснить все, а не просто приводить страшные факты. Это вызовет только более тяжкие последствия и даже резню. Надо сначала прийти к какой-то общей позиции. По закону территориальный вопрос может решить только сам Азербайджан. По действующим сегодня законам, через голову Азербайджана союзный Верховный Совет этого сделать не может.
Николай ЕФИМОВ, заместитель главного редактора:
— Да, мы молчали, пожалуй, слишком долго молчали. В западной прессе сегодня множество рассуждений. Что это, крах гласности? — спрашивают одни. Есть и иная точка зрения. Например, английская «Дейли телеграф» писала, что нельзя осуждать советскую печать за молчание. Любой репортаж из Сумгаита, утверждала она, мог подлить еще больше масла в огонь. И все-таки мы отдали поле диссидентам и разным сомнительным личностям. Они и питали западную прессу. Питали, потому что мы с вами молчали.
Нам нужно было сразу же, не дожидаясь команды, послать корреспондентов во все нужные точки.
Вывод второй. Мы слабо освещаем жизнь наших республик и областей. Мы не знаем, какие процессы, например, в Туве, в Хакассии. И жизнь в Нагорном Карабахе по-настоящему не освещали. Кто вспомнит хоть один материал из этой области за прошлый год?
Вывод третий. Наши собкоры, в данном случае бакинский и ереванский, должны были нас информировать и год, и два года назад о том, что происходит там. Они должны были знать об этом. Но не информировали, о проблемах не писали. В чем же дело? Плохо осведомлены о жизни в собственных республиках?
Р.S. Текст, повторю еще раз, представлен строго по стенограмме. Оставляю мнение коллег без комментариев.
Элла МЕРКЕЛЬ, дежурный критик:
— Одна из двух важнейших линий газеты — Нагорный Карабах. Мы освещали честнее, смелее, чем другие газеты. Сообщения из Армении были подробнее и эмоциональнее, чем из Азербайджана. Не знаю, политика это или возможности авторов. Достойно быть отмеченным и то, что редакция на первых порах оберегала С.Баблумяна и отправила на Кавказ сразу трех собкоров: Р. Лынева, С. Дардыкина, П. Гутионтова.
Кроме человеческих подробностей и журналистской объективности в их дневнике присутствуют сомнения и смятение. Разделенная боль — главное достоинство наших публикаций.
Так почему при всей нашей объективности армяне ополчились на центральную прессу, на «Известия»? Почему считают, что журналисты, в том числе и мы, увы, создаем превратное мнение о народе? Мы молчим об истории. Обращение к ней многое иначе бы объяснило широкой публике, и у армян не сложилось бы убеждения, что их намеренно представляют возмутителями спокойствия, экстремистами. Не следовало бы сводить причины всего к отсталости социально-культурной сферы и искусственному ограничению духовных связей с Армений. Это полуправда.
Ирина ОВЧИННИКОВА, корреспондент отдела школ и вузов:
— В день, когда в Ереван пришла наша газета со статьей Лынева и Дардыкина «Встречи после митингов», мне позвонила героиня моего давнего-давнего очерка и попросила поклониться в ноги авторам статьи и редакции. Она сказала: «Это не вся истина, но хотя бы первое приближение к ней». После статьи в «Правде» наше выступление было принято всем ее окружением с благодарностью.
Мэлор СТУРУА, политобозреватель:
— События в Нагорном Карабахе вызвали к жизни теорию, которую условно я назвал бы теорией заложничества перестройки. Разумеется, события ударили по перестройке. Разумеется, по перестройке ударяют и будут ударять многие другие негативные явления, которые происходят в нашей стране. В период бурного развития событий в Нагорном Карабахе, мне кажется, руководство редакции должно было собрать тех сотрудников газеты, которые представляют малые нации, чтобы «на слух» проверить публикации, посвященные этому вопросу. Дело в том, что некоторые фразы, кажущиеся вполне безобидными для уха представителей одной нации, могут взорваться динамитной шашкой для иного уха. Национальный камертон — очень тонкая штука.
Лев КОРНЕШОВ, заместитель главного редактора:
— Нам требуется значительно усилить внимание к освещению проблем национального строительства. Вот, например, печатаем в сегодняшнем номере фотографию Ташкентского метрополитена, а на снимке, конечно же, русская девушка.
…Думаю, что с Карабахом повторилась та же история, что и с Чернобылем. Нельзя было столько молчать. В Швеции у меня прошло до десятка пресс-конференций, дважды выступал по радио, встречался со многими журналистами, выступал с лекциями о перестройке и гласности. И всегда везде один и тот же вопрос: что же это за гласность, если у вас в прессе с таким запозданием стали писать о Карабахе? Хорошо, что за день до отъезда я встретился с нашими журналистами, которые только что вернулись из Баку и Еревана, и расспросил их.
Игорь КАРПЕНКО, заместитель ответственного секретаря:
— Думаю, наши корреспонденты прошли по острию ножа, а «Известия» лучше, честнее других тащили эту тему. Никто из нас не может сказать, кто прав, кто виноват, так можно весь мир перессорить. В Степанакерте в один клубок сплелись и национальные, и религиозные, и территориальные вопросы. Никто не предложил и не мог предложить людям реальной программы. В том числе и сами участники митингов. Поэтому необычайно сложно требовать больше гласности в освещении этих событий — надо знать, с чем выходить к людям, как объяснить все, а не просто приводить страшные факты. Это вызовет только более тяжкие последствия и даже резню. Надо сначала прийти к какой-то общей позиции. По закону территориальный вопрос может решить только сам Азербайджан. По действующим сегодня законам, через голову Азербайджана союзный Верховный Совет этого сделать не может.
Николай ЕФИМОВ, заместитель главного редактора:
— Да, мы молчали, пожалуй, слишком долго молчали. В западной прессе сегодня множество рассуждений. Что это, крах гласности? — спрашивают одни. Есть и иная точка зрения. Например, английская «Дейли телеграф» писала, что нельзя осуждать советскую печать за молчание. Любой репортаж из Сумгаита, утверждала она, мог подлить еще больше масла в огонь. И все-таки мы отдали поле диссидентам и разным сомнительным личностям. Они и питали западную прессу. Питали, потому что мы с вами молчали.
Нам нужно было сразу же, не дожидаясь команды, послать корреспондентов во все нужные точки.
Вывод второй. Мы слабо освещаем жизнь наших республик и областей. Мы не знаем, какие процессы, например, в Туве, в Хакассии. И жизнь в Нагорном Карабахе по-настоящему не освещали. Кто вспомнит хоть один материал из этой области за прошлый год?
Вывод третий. Наши собкоры, в данном случае бакинский и ереванский, должны были нас информировать и год, и два года назад о том, что происходит там. Они должны были знать об этом. Но не информировали, о проблемах не писали. В чем же дело? Плохо осведомлены о жизни в собственных республиках?
Р.S. Текст, повторю еще раз, представлен строго по стенограмме. Оставляю мнение коллег без комментариев.