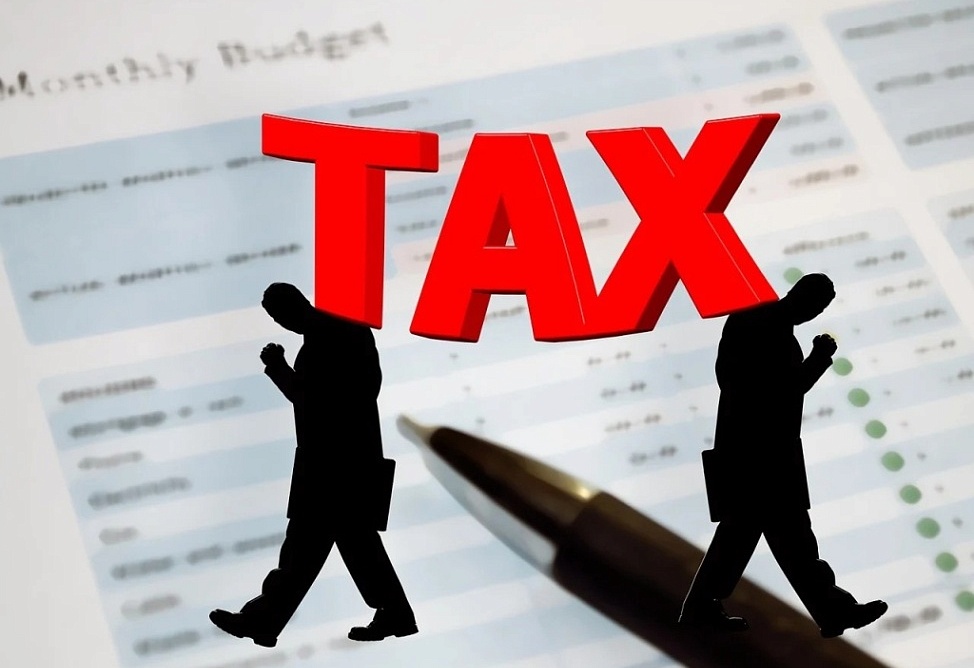Прежде мы в плане роялти имели такую систему, когда налог взимался с погашенных запасов природных ископаемых. Допустим, какая-то горнорудная компания эксплуатирует месторождение с запасами сырья в объеме 20 млн тонн, которые должны были поэтапно извлекаться в течение 30 лет. Логика прежней системы заключалась в том, что если, скажем, из указанных 20 млн тонн в данном году компания добыла 700 тысяч тонн, то исходя из этой добычи она должна была выплатить платеж за недропользование плюс роялти в зависимости от полученной прибыли. В чем была проблема?
ПРАВИТЕЛЬСТВО не могло должным образом контролировать объем добычи, и компании при желании, скажем так, «оптимизировать» налоговые выплаты могли с легкостью это сделать. Так как контролером в данном случае выступал Комитет госдоходов, но там нет узкоспециализированных специалистов, которые могли бы прибыть на рудник и с точностью определить объем погашенных запасов, то есть сколько на самом деле полезных ископаемых было добыто из недр. В такой системе таился огромный риск, так как некоторые горнодобывающие организации могли бы в период высоких цен на сырье умышленно показывать уменьшенные объемы добычи, в реальности добывая намного больше, и, соответственно, выплачивать меньше налогов, а далее, когда цены снижались, «рисовать» превышающие фактическую добычу объемы, тем самым подгоняя общие запасы под жизненный цикл месторождения.
В 2010-11 годах была поставлена задача — исходя из мирового опыта разработать новую систему взимания налогов, при которой государство могло бы эффективно взимать с горнодобывающих компаний свою долю от добычи ископаемых. То есть подход всегда должен быть следующим: введи правильную систему, при которой обман государства исключался бы, и тем самым попусту не лишай компании презумпции невиновности, видя в каждой из них потенциального преступника. И вот в 2014 году произошел переход на новую систему налогообложения горнорудной деятельности.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, роялти раньше состоял из двух компонентов — экологического платежа за недропользование (в зависимости от погашенных запасов, то есть от добычи) и отчисления от прибыли. Сегодня же понятие «погашенные запасы» выведено из обращения, а роялти образуется из экологического платежа (4% от оборота) и отчислений от прибыльности в размере 1/8. Это и есть нынешняя формула роялти. В результате новации споры о реальных объемах добычи ушли в прошлое, так как в основу налогооблагаемой базы ставились уже не объемы погашенных запасов, а оборот, то есть реализация.
Однако и в новой модели налогообложения оказались уязвимые места, которые можно разделить на две части. Все нормально, когда эту модель применяют по отношению к новым рудникам, которые в курсе этой модели и прежде, чем начать эксплуатацию, могут рассчитать богатство месторождения с тем, чтобы оценить, стоит ли овчинка выделки или нет. Для них эта модель, можно сказать, совершенная, так как, в частности, компании, будучи изначально в курсе налоговых требований государства, могут рассчитывать, стоит ли ввязываться в данное конкретное дело или нет. Тем самым новая модель может восприниматься в качестве заслона, шлагбаума для разработки небольших, бедных по содержанию рудников, то есть это профилактическая мера для того, чтобы на каждом шагу не открывался рудник.
Но если компания уже эксплуатирует месторождение и государство применяет к ней новую модель налогообложения, то не исключено, что в случае относительно бедных рудников эффективная ставка налога может оказаться для компании настолько высокой, что рентабельность добычи будет стремиться к нулю и даже минусу. К примеру, для каджаранского рудника новая модель оказывается вполне приемлемой, а вот, допустим, для более бедного техутского — неприемлемой вовсе. Вот почему в международной практике принято договариваться между правительством и горнорудной компанией насчет того, что если в ходе жизненного цикла месторождения государство поменяет фискальный режим, то данная, уже действующая компания должна функционировать на изначальных условиях.
ТО ЕСТЬ СПЕЦИФИКА горнорудного дела в том и заключается, что эта отрасль на предварительном этапе, еще до получения первой прибыли, требует масштабных капитальных затрат, которые принято именовать «мертвыми расходами». И если в середине жизненного цикла рудника фискальные условия меняются в сторону ухудшения для хозсубъекта, то создается риск того, что данная компания начинает работать себе в убыток и в конечном итоге становится банкротом. Тем более что многие компании работают на взятые кредиты, так как не в состоянии из собственных ресурсов обеспечить вложения на сотни миллионов долларов.
Поэтому при введении новой модели шли споры вокруг этого положения, и, в частности, представители правительства говорили, что в данном случае речь идет не о налоге, а о платеже за природопользование, но правда заключается в том, что как бы эти расходы хозсубъекта ни назывались, они остаются расходами, причем в данном случае непредусмотренными.