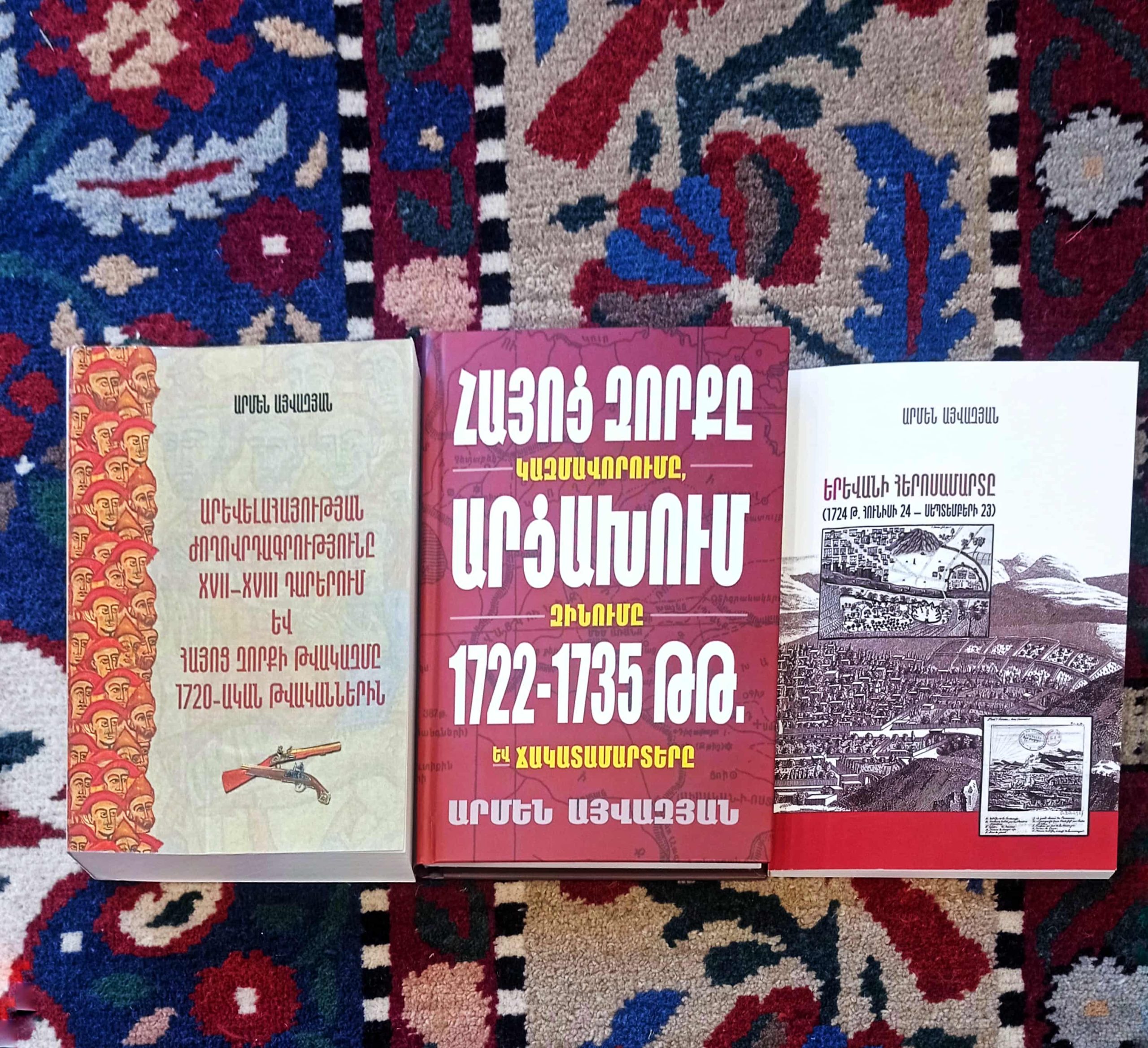В этом году художнику Валентину Подпомогову исполнилось бы 90 лет
В культурно-деловом центре «Дом Москвы» в рамках цикла «Дорога к себе» состоялся творческий вечер, посвященный 90-летию живописца, художника театра и кино, лауреата Государственной премии Армянской ССР Валентина Георгиевича Подпомогова.
НАЧАЛСЯ ОН С ПОКАЗА ФИЛЬМА «ДЯДЯ ВАЛЯ», СНЯТОГО ЕЩЕ ПРИ ЖИЗНИ ХУДОЖНИКА. Фильм этот и задал настроение вечеру, собравшему большую аудиторию. Публика (а это были представители самых разных возрастов — от весьма преклонных до молодых лет) свидетельствовала: Подпомогов — одна из ярких и неординарных фигур Советской Армении, и сегодня, спустя 16 лет после смерти, продолжает вызывать неподдельный интерес.
Родился Валентин Георгиевич в 1924 году и, по сохранившемуся в семье преданию, был первым ребенком в Армении, появившимся на свет путем кесарева сечения. Врачи, занятые спасением матери, не обращали внимания на не подававшего признаков жизни младенца, но, когда его уже собрались отправлять в морг, изо рта новорожденного выдулся пузырь – ребенок задышал. Говорят, сам Валентин Георгиевич любил рассказывать эту историю, так же как и ту, что не любил учиться и закончил всего четыре класса, что, однако, не помешало ему стать первым главным художником Еревана, города, который он беззаветно любил. В графе «национальность», неизменную в анкетах тех лет, он писал «русский», подчеркивая в следующей графе, что родным языком для него является армянский. Земля Армении была его родиной, которую он отказывался покидать, несмотря на заманчивые предложения работать в Москве.
Самой большой страстью Подпомогова было кино. Художник-постановщик десятков фильмов, снятых на киностудии «Арменфильм», он создал целую галерею прекрасно оформленных картин: «Карине», «Мужчины», «Песня первой любви», «Призраки поющей вершины», «Тайна горного озера», «Сердце поет»… В 60-х годах он организовал на киностудии мультипликационный цех и начал снимать анимационные фильмы, способствуя возрождению армянской мультипликации. Тогда и появились на свет полюбившиеся и детям, и взрослым «Скрипка в джунглях», «Волшебный ковер», «Полосатые тигры», «Мышонок Пуй-Пуй»… Мультфильм «Капля меда» по произведению Ованеса Туманяна получил Гран-при международного фестиваля.
ПИСАТЬ ЖИВОПИСНЫЕ КАРТИНЫ ПОДПОМОГОВ НАЧАЛ ПОЗДНО – В 50 ЛЕТ. Никогда и нигде ни у кого не учившийся Валентин Георгиевич оставил после себя не так уж много работ, но все они несут в себе печать глубоких размышлений. Все – форма, линия, цвет — подчинено определенной идее. Трудно поверить, что автор их — любитель веселых попоек, гуляка и балагур, а именно таким мог сложиться поначалу образ художника у людей, не знакомых с его творчеством.
Вдова Валентина Георгиевича Ася Подпомогова построила вечер воспоминаний на байках, сопровождавших жизнь художника и нередко инициированных им самим. Наверное, это было правильно, ведь в зале собрались люди, хорошо знавшие и самого художника, и его картины. Возможно, именно таким он и сам бы желал видеть свой юбилей, если бы дожил до него. Тем более что сквозь шелуху этих баек неудержимо прорывалась личность, не укладывающаяся в прокрустово ложе традиционных стереотипов. Наверное, поэтому на сцене и была представлена только его «Ностальгия» — поразительной выразительности грустная обезьяна. Говорят, он называл эту картину своим автопортретом. Других «автопортретов» у него нет, он никогда не писал их, но пальцы персонажей его картин неизменно повторяют форму его собственных рук.
Перед тем как сдать этот материал в редакцию, я побывала в мастерской художника. Она находится в подвальном помещении, и, чтобы попасть в нее, пришлось спуститься на десяток ступеней вниз. Серый бетонный пол, серебристо-серый колорит картин. Одна из них — Mea culpa. «Я виновен» — эту формулу признания своей вины, которую перед судом священной инквизиции был вынужден произносить обвиняемый, Подпомогов взял в название картины, написанной им в 1983 году. В период, когда угроза ядерной войны казалась неотвратимой. В основании башни, этого конгломерата культур разных народов и цивилизаций, художник поместил египетские пирамиды, следующая ступень -христианские храмы, затем небоскребы, и над всем этим великолепием, созданным в течение тысячелетий гением и трудом человека, небо с облаками от ядерных взрывов, а внизу — спешащие к обезлюдевшей башне несметные полчища крыс. Крысы, как известно, способны адаптироваться к любой ситуации. А еще на картине большой человеческий череп и силуэт Звартноца на облаке. Расшифровка этих символов очевидна: позиция «моя хата с краю» ведет человечество и самого наблюдателя к гибели. Предотвратить катастрофу можно, только если у человека есть что беречь, для Подпомогова – это армянская земля.
«Занавес» — единственная работа в красках, представленная в мастерской. Спектакль закончен, на полу небрежно брошенная марионетка, до которой уже никому нет дела. Грустная ассоциация с образом художника, которого легко ранить и словом, и взглядом.
ЗДЕСЬ ЖЕ, В МАСТЕРСКОЙ, НЕСКОЛЬКО РАБОТ ИЗ ЗАДУМАННОЙ ПОДПОМОГОВЫМ серии «Серебряная сюита». Она должна была состоять из 12 картин, но закончена лишь одна — «Мудрость». Седовласый слепой старец, пальцами ощупывающий модель земного шара, предстает на фоне стены, сложенной из камней с символами разных эпох и разных народов. Внизу надпись на латинском – знаменитые слова Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю». Еще две: картина с мальчиком, стоящим на перевернутой лапками вверх черепахе, и другая, на которой, пробив скорлупу яйца, ввысь устремляются две яркие полосы (возможно, они символизируют рождение новой звезды?!) не дописаны. Сюжеты остальных сохранились в карандашных набросках.
Рассматривая репродукции картин для так и не изданного альбома художника, я увидела фотографию работы, поразившей меня еще во время одного из приездов в Ереван. Тогда, в середине 80-х, картина стояла на подставке в Музее современного искусства, так что была доступна взору посетителей с обеих сторон. На одной была написана голова, затылок которой пробила пуля. На оборотной стороне — лицо. От смертельного ужаса, застывшего в глазах расстрелянного (пуля уже пронзила лоб), бросало в дрожь. Фамилии художника я не помнила, и только сейчас узнала, что это тоже работа Подпомогова.
В музее Сардарапата представлена картина «Андраник». «Похороны веры» и ряд других находятся в частных коллекциях. И еще одна, но уже из серии «Домовые». Два забавных таких существа, у одного болит зуб, другое сочувствует, желает как-то облегчить другу боль. В этом весь Подпомогов, дружба для которого была, как он сам говорил, понятием круглосуточным.
Обидно, что не было и нет ни одного альбома картин Валентина Георгиевича. Если бы Министерство культуры Армении, Российский центр науки и культуры представительства Россотрудничества в Армении или кто-то из меценатов помогли с его изданием – это был бы подарок для всех поклонников творчества Подпомогова.
Родился Валентин Георгиевич в 1924 году и, по сохранившемуся в семье преданию, был первым ребенком в Армении, появившимся на свет путем кесарева сечения. Врачи, занятые спасением матери, не обращали внимания на не подававшего признаков жизни младенца, но, когда его уже собрались отправлять в морг, изо рта новорожденного выдулся пузырь – ребенок задышал. Говорят, сам Валентин Георгиевич любил рассказывать эту историю, так же как и ту, что не любил учиться и закончил всего четыре класса, что, однако, не помешало ему стать первым главным художником Еревана, города, который он беззаветно любил. В графе «национальность», неизменную в анкетах тех лет, он писал «русский», подчеркивая в следующей графе, что родным языком для него является армянский. Земля Армении была его родиной, которую он отказывался покидать, несмотря на заманчивые предложения работать в Москве.
Самой большой страстью Подпомогова было кино. Художник-постановщик десятков фильмов, снятых на киностудии «Арменфильм», он создал целую галерею прекрасно оформленных картин: «Карине», «Мужчины», «Песня первой любви», «Призраки поющей вершины», «Тайна горного озера», «Сердце поет»… В 60-х годах он организовал на киностудии мультипликационный цех и начал снимать анимационные фильмы, способствуя возрождению армянской мультипликации. Тогда и появились на свет полюбившиеся и детям, и взрослым «Скрипка в джунглях», «Волшебный ковер», «Полосатые тигры», «Мышонок Пуй-Пуй»… Мультфильм «Капля меда» по произведению Ованеса Туманяна получил Гран-при международного фестиваля.
ПИСАТЬ ЖИВОПИСНЫЕ КАРТИНЫ ПОДПОМОГОВ НАЧАЛ ПОЗДНО – В 50 ЛЕТ. Никогда и нигде ни у кого не учившийся Валентин Георгиевич оставил после себя не так уж много работ, но все они несут в себе печать глубоких размышлений. Все – форма, линия, цвет — подчинено определенной идее. Трудно поверить, что автор их — любитель веселых попоек, гуляка и балагур, а именно таким мог сложиться поначалу образ художника у людей, не знакомых с его творчеством.
Вдова Валентина Георгиевича Ася Подпомогова построила вечер воспоминаний на байках, сопровождавших жизнь художника и нередко инициированных им самим. Наверное, это было правильно, ведь в зале собрались люди, хорошо знавшие и самого художника, и его картины. Возможно, именно таким он и сам бы желал видеть свой юбилей, если бы дожил до него. Тем более что сквозь шелуху этих баек неудержимо прорывалась личность, не укладывающаяся в прокрустово ложе традиционных стереотипов. Наверное, поэтому на сцене и была представлена только его «Ностальгия» — поразительной выразительности грустная обезьяна. Говорят, он называл эту картину своим автопортретом. Других «автопортретов» у него нет, он никогда не писал их, но пальцы персонажей его картин неизменно повторяют форму его собственных рук.
Перед тем как сдать этот материал в редакцию, я побывала в мастерской художника. Она находится в подвальном помещении, и, чтобы попасть в нее, пришлось спуститься на десяток ступеней вниз. Серый бетонный пол, серебристо-серый колорит картин. Одна из них — Mea culpa. «Я виновен» — эту формулу признания своей вины, которую перед судом священной инквизиции был вынужден произносить обвиняемый, Подпомогов взял в название картины, написанной им в 1983 году. В период, когда угроза ядерной войны казалась неотвратимой. В основании башни, этого конгломерата культур разных народов и цивилизаций, художник поместил египетские пирамиды, следующая ступень -христианские храмы, затем небоскребы, и над всем этим великолепием, созданным в течение тысячелетий гением и трудом человека, небо с облаками от ядерных взрывов, а внизу — спешащие к обезлюдевшей башне несметные полчища крыс. Крысы, как известно, способны адаптироваться к любой ситуации. А еще на картине большой человеческий череп и силуэт Звартноца на облаке. Расшифровка этих символов очевидна: позиция «моя хата с краю» ведет человечество и самого наблюдателя к гибели. Предотвратить катастрофу можно, только если у человека есть что беречь, для Подпомогова – это армянская земля.
«Занавес» — единственная работа в красках, представленная в мастерской. Спектакль закончен, на полу небрежно брошенная марионетка, до которой уже никому нет дела. Грустная ассоциация с образом художника, которого легко ранить и словом, и взглядом.
ЗДЕСЬ ЖЕ, В МАСТЕРСКОЙ, НЕСКОЛЬКО РАБОТ ИЗ ЗАДУМАННОЙ ПОДПОМОГОВЫМ серии «Серебряная сюита». Она должна была состоять из 12 картин, но закончена лишь одна — «Мудрость». Седовласый слепой старец, пальцами ощупывающий модель земного шара, предстает на фоне стены, сложенной из камней с символами разных эпох и разных народов. Внизу надпись на латинском – знаменитые слова Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю». Еще две: картина с мальчиком, стоящим на перевернутой лапками вверх черепахе, и другая, на которой, пробив скорлупу яйца, ввысь устремляются две яркие полосы (возможно, они символизируют рождение новой звезды?!) не дописаны. Сюжеты остальных сохранились в карандашных набросках.
Рассматривая репродукции картин для так и не изданного альбома художника, я увидела фотографию работы, поразившей меня еще во время одного из приездов в Ереван. Тогда, в середине 80-х, картина стояла на подставке в Музее современного искусства, так что была доступна взору посетителей с обеих сторон. На одной была написана голова, затылок которой пробила пуля. На оборотной стороне — лицо. От смертельного ужаса, застывшего в глазах расстрелянного (пуля уже пронзила лоб), бросало в дрожь. Фамилии художника я не помнила, и только сейчас узнала, что это тоже работа Подпомогова.
В музее Сардарапата представлена картина «Андраник». «Похороны веры» и ряд других находятся в частных коллекциях. И еще одна, но уже из серии «Домовые». Два забавных таких существа, у одного болит зуб, другое сочувствует, желает как-то облегчить другу боль. В этом весь Подпомогов, дружба для которого была, как он сам говорил, понятием круглосуточным.
Обидно, что не было и нет ни одного альбома картин Валентина Георгиевича. Если бы Министерство культуры Армении, Российский центр науки и культуры представительства Россотрудничества в Армении или кто-то из меценатов помогли с его изданием – это был бы подарок для всех поклонников творчества Подпомогова.