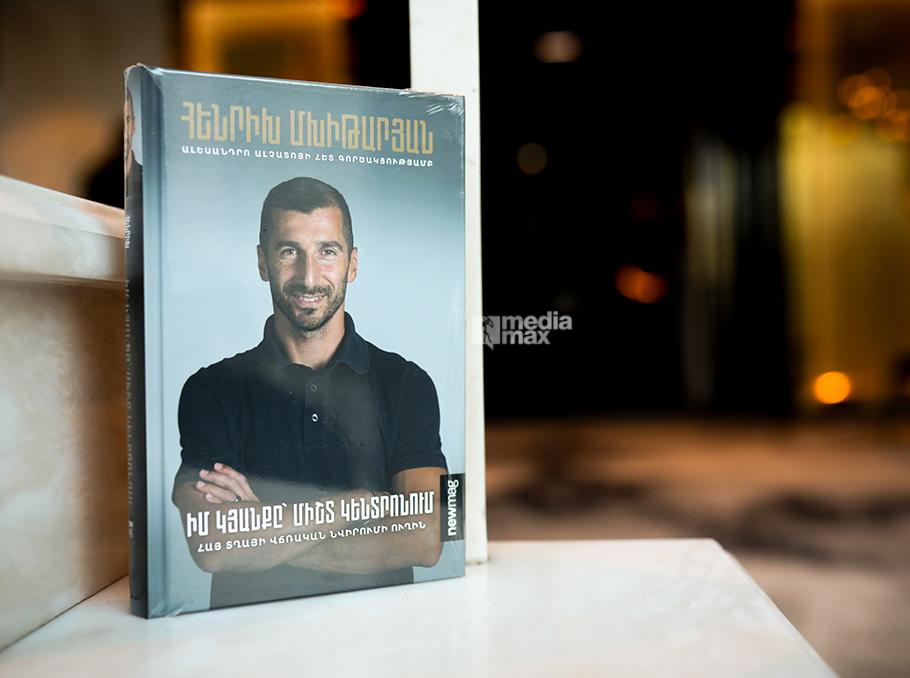— Журнал "Дружба народов", один из самых читаемых журналов времен большой страны, знакомил нас с литературой народов союзных республик. А что сейчас входит в ареал вашего внимания? Как часто произведения армянских авторов попадают сегодня на страницы журнала?
— Мы, как и прежде, наблюдаем за литературным процессом на постсоветском пространстве, иногда выходя за его пределы, но главным образом в этих рамках. Реальность такова, что журнал "Дружба народов" поступает в республики Закавказья в количестве всего от 7 до 9 экземпляров. Это очень печально, прискорбно, обидно. Но хотя читательская аудитория нашего журнала в вашей стране снизилась в разы, Армения по-прежнему остается тем литературным регионом, из которого мы ждем интересного, талантливого, яркого слова, посыла. Наше сотрудничество многолетнее, долгое, тесное. Перед отъездом в Ереван я попросил подготовить перечень публикаций, связанных с Арменией. Список оказался внушительным — свыше 60 материалов. Зачитывать его не буду, скажу лишь, что в минувшем году была опубликована повесть Овсепяна "Под абрикосовыми деревьями", подборка стихов Анаид Тадевосян, документальная проза звукооператора Гарри Кунцева о работе с Сергеем Параджановым. Кунцев был звукооператором и на экранизации моего романа "Брак по-имеретински", который снимался на киностудии "Грузия-фильм". Был напечатан фрагмент мемуаров уже ушедшего из жизни талантливого тбилисского художника Роберта Кондахсазова, посвященный выдающимся представителям тифлисской школы живописи Александру Бажбеук-Меликяну, Джотто (Григоряну). В переводе Михаила Синельникова с его же развернутым предисловием была опубликована неизвестная ранее подборка стихов Егише Чаренца из недавно обнаруженной тетради. Стихи Меружана Мовсесяна были отданы в переводе нашего большого друга, переводчика и критика Георгия Кубатьяна. Он же автор статьи о книге Мариам Петросян "Дом, в котором", рецензии на книгу известной русской поэтессы Инны Лиснянской, она вам тоже родственна, мать у нее армянка. Лиснянская — лауреат национальной премии "Поэт", самой крупной поэтической премии в мире, денежное обеспечение которой эквивалентно $50 тыс.
Идея Общества поощрения русской поэзии состоит в том, чтобы в огромном море стихов (только на одном из сайтов зарегистрировано более 300 тысяч русских поэтов), был хоть какой- то порядок, какая-то иерархия, лестница дарований. Эта премия пробует установить эту самую иерархию, как мы шутим, — поэтов со справкой. Не могу не назвать статью Гукасяна "Богом Грант был оправдан". Грант Матевосян – один из наших самых любимых авторов, всегда удивительно точен, лиричен, умен. К сожалению, мы уже несколько лет не можем ничего получить из его архива. Я думал, проблема в переводе, но, приехав сюда, выяснил, что ничего еще не вышло даже на армянском. Такая позиция, такое отношение к выдающемуся писателю мне непонятно. Пять лет назад вышел номер, целиком посвященный армянской литературе в замечательном авторском составе — повесть Агаси Айвазяна", несколько новел Гранта Матевосяна, воспоминания сестры Шарля Азнавура. Номер был прекрасно встречен московской общественностью.
— Как обстоят сегодня дела на переводческом фронте?
— Литературные связи с развалом Союза несколько ослабли, контакты истончились, тем не менее информация о появлении яркого, сильного интересного произведения доходит до Москвы, и тогда мы начинаем задумываться над организацией перевода. Это сложный процесс, и пока он висит на волоске, который называется редакция журнала "Дружба народов". У нас сохранились старые контакты с переводчиками, однако ряды их редеют, они уходят на глазах, а попытки выйти на новых, не всегда успешны. Найти литературно одаренного двуязычного человека дело трудное, но, когда выпадает такая удача, мы стараемся как-то выпестовать его, отшлифовать, чему- то научить, что-то показать.
Я сам выпускник Литературного института по переводческой кафедре и помню, как педантично и основательно это дело было тогда поставлено. Мы учились вместе с Анаит Баяндур, которая смогла очень качественно ввести в русскую среду Гранта Матевосяна, за что мы ей бесконечно признательны и благодарны. Руководитель Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов на встрече в Ереване сообщил, что в Москве создается институт переводчиков. Это хорошая новость. Вопрос в том, какой будет продуктивность этого института. Конечно, главное, чтобы литература писалась. В Грузии — на грузинском языке, в Чечне — на чеченском, в Армении — на армянском. Но останься Грант Матевосян только в ареале армянского языка, древнего, замечательного, мы сейчас не об этой стороне дела говорим, но локального, это было бы непродуктивное использование Божьего дара.
Русский перевод произведения, написанного на национальном языке, — это мост в большой мир, выход на простор не только русскоязычного, но и зарубежного читателя. В редакцию "Дружбы народов" до сих пор обращаются из разных издательств "европейской книги" с просьбой сообщить о новинках литературы на постсоветском пространстве, они хотят знать, что нового написал тот или иной писатель из стран СНГ. Переведенное на русский язык произведение этих авторов уходит в Европу и там уже переводится на другие языки. Без квалифицированных специалистов этот момент теряется. Надо, чтобы школа перевода, которая налаживается силами фонда, состоялась. Для чего? Для сохранения общей души, чтобы не все стерлось доминирующими в наше время финансовыми фишками.
— Сегодня читательская аудитория сократилась в разы не только у журналов. Школьные учителя, преподаватели вузов сетуют, что молодежь перестала читать вообще, не знает даже классиков, входящих в программы обучения.
— После публикации в нашем журнале очерка о Таджикистане, это было где-то в конце 80-х годов, в Москву приехал французский журналист, который хотел поездить по этой республике. Автору очерка предложили его сопровождать. В одном из высокогорных кишлаков журналиста познакомили с учителем местной школы-восьмилетки. Тот искренне обрадовался гостю, сказал, что очень любит французскую литературу. Французу это стало приятно. Но когда учитель сказал, что особенно любит Стендаля, у француза вытянулось лицо и последовал диалог: "А кто это?" — "Как, вы не читали "Красное и черное", "Пармскую обитель?" — "Нет, не читал". — "Может, вы хотя бы видели фильмы с участием Жерара Филиппа?" — "А это кто?" Я говорю это к тому, что мы возвращаемся в семью "цивилизованных стран" и, наверное, очень скоро станем спрашивать, а кто такой Грант Матевосян, кто такой Лермонтов? Приметы этого, к сожалению, уже есть.
Как-то я поинтересовался у Гранта Матевосяна, почему он перестал присылать нам свои произведения, думал, что у него возникли трудности с переводом и хотел помочь. Но Грант сказал: "Я больше не пишу вообще. Когда я смотрю на несколько лет вперед (а он был на это способен), то не вижу девушки, читающей мою книгу". Такое вот горькое заявление. Недавно другой писатель, замечательный прозаик Анатолий Ким сказал мне, что перестал писать, потому что люди перестали читать.
— И в то же время нас захлестнуло половодье новых книг… По-моему, столько не печаталось даже в советское время, когда поголовно все читали.
— Мой друг редактор журнала "Знамя" Сергей Иванович Чупринин часто рассказывает такой анекдот. Выступает первый секретарь Тульского обкома партии и говорит об успехах советской культурной политики. В Тульской губернии до советской власти проживал один писатель, а сейчас — 65. Успех, действительно, грандиозный, если забыть, что одним русским писателем был Лев Толстой, а 65 — члены союза писателей. Эта, я бы сказал, юмористическая новелла имеет отношение к реальности разных современных литератур, в том числе и к русской. Ощущение такое, что больших писателей не осталось не только в России, но и на всей планете. Нет глубины, качества, а только одно количество. Россиян действительно захлестнуло половодье самодеятельной литературы, и одна из причин – легкий доступ к печатному станку. Сегодня издать книжку может каждый, были бы деньги, причем не очень большие. Но такую, с позволения сказать, псевдолитературу вы никогда не прочтете на страницах "Мира", "Знамени", "Звезды", "Дружбы народов" и других журналов с серьезной литературной репутацией. Наше назначение в том, что в этом море написанного и пишущегося, среди этих 350 тысяч поэтов и сотен тысяч прозаиков попытаться найти, показать то, что действительно стоит внимания.
— А какое литературное произведение последних лет стало, на ваш взгляд, событием?
— Ежегодно в России издается 120 тысяч наименований книг, но только единицы можно отнести к настоящей литературе. И каждый раз это огромное удовольствие и большая радость. Книга замечательного грузинского писателя Отара Чиладзе "Годори", которую я перевел на русский язык, именно такая. Станислав Рассадин в своей рецензии в "Новой газете" назвал ее единственным литературным событием на всем постсоветском пространстве за весь постсоветский период. Слово "Событие" он набрал заглавными буквами. Роман был высоко оценен российской литературной средой. Такой талант, как у Отара Чиладзе, редкость. Его не стало около двух лет назад. Он похоронен на Мтацминда — святой горе, недалеко от могилы Грибоедова. Отар Чиладзе писатель трагического восприятия, очень мощный. В чем-то они с Грантом перекликаются. Оба настоящие писатели.