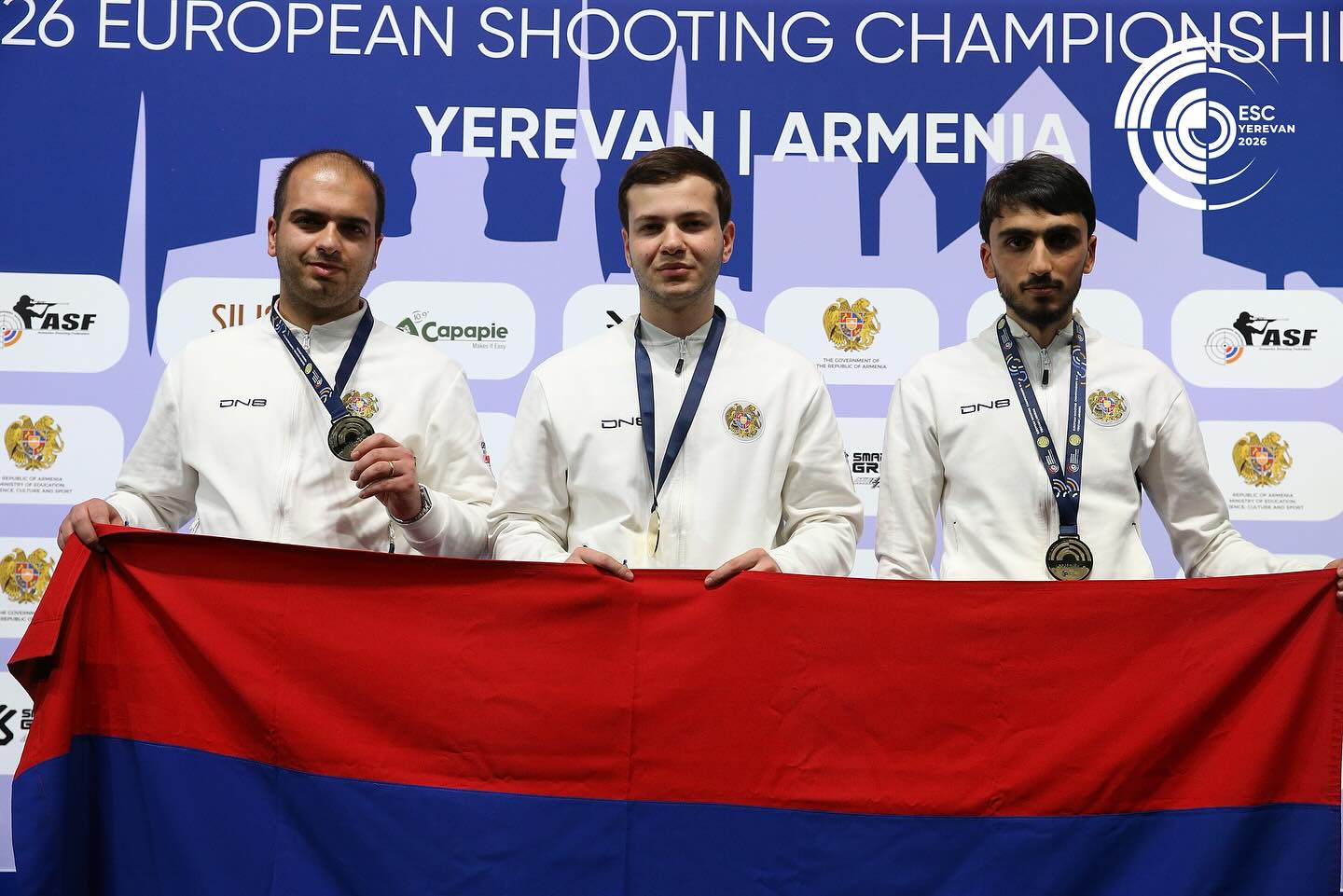Степанакерт. Армянская школа N1. Первый класс. Новый, 1943 год. В школе, помнится, проводили предновогодний утренник у елки. Пели, плясали. Читали стихи. Дед Мороз раздавал ученикам младших классов по несколько конфет, а старшеклассникам — красивые книжки. Я помню, никто из нас не смел полакомиться конфетами. Относили домой: у каждого братья, сестры. Я читал стихи Аветика Исаакяна. Учительница наша, товарищ Адамян, дала мне на два дня книгу Аветика Исаакяна. Выучил я наизусть небольшой отрывок.
Дня через два дома у нас стало известно, что из-за меня и еще двоих моих одноклассников пострадали люди. Не то редактор газеты, не то редактор радио. Оказалось, категорически нельзя хвалить в советской печати детей и вообще членов семьи "врага народа". Тогда же я узнал, что нечто подобное случилось, когда праздновали Новый, 1940 год. Тогда в детском саду (мне не было еще и пяти лет) я прочитал чьи-то стихи, и кто-то опять пострадал. Дело в том, что в редакциях были имена детей "врагов народа" и специальные штатные работники следили за тем, чтобы их вдруг ненароком не похвалили.
Я не думаю, что из-за этого тогда был закомплексован. Во-первых, таких, как я, было много, во-вторых, главным авторитетом в моей жизни был дедушка Маркос, который открыто гордился моим отцом. А в-третьих, вскоре стало известно, что Аветика Исаакяна, ставшего моим первым кумиром, в Баку считали "плохим человеком" и даже были оскорблены, что Варпет приехал в Степанакерт без их разрешения. Я помню, как взрослые по этому поводу возмущались. И больше всех Баграт Улубабян. Тогда впервые мы услышали это имя — имя будущего лидера Карабахского движения.
Итак, с детства я имел своего кумира. Читал его стихи. Знал даже о том, что жена его из нашего Шуши. Но вот прошли годы. И какие годы! — шумные, буйные, морозные, лирические, прозаические. И вдруг я понял, что у меня появилось еще два кумира. Говоря о кумире, я никогда не имел в виду языческого божка или идола. А подразумевались особое уважение и почитание особого таланта, который меня вдохновляет, обязывает учиться у него, приблизиться к нему. И вот такими после Исаакяна стали постепенно, медленно и верно Антон Чехов и Джек Лондон.
Кроме гениальности обоих для меня было определяющим и то, что Антон Павлович был врачом, а Джон Гриффит (это настоящее имя Джека Лондона) — это и море, и тундра, и яхта, и собачьи упряжки. Конечно, у меня было много-много других армянских и иностранных, дорогих моему сердцу писателей и философов, но вот Исаакян, Чехов и Джек Лондон остались навеки со мной. Прочитал, пожалуй, все, что они писали. Даже толстые книги Авика Исаакяна о своем гениальном деде. Но сегодня разговор только о Чехове. Сегодня экипаж "Армении" на острове Шри-Ланка, который знает, помнит и чтит великого русского писателя.
В Драматическом театре столицы Шри-Ланки Коломбо играли "Вишневый сад" и "Три сестры" на сингальском языке. На этом же языке написаны книги и целая монография о пребывании Чехова на острове. Говорят, цейлонцам здорово повезло: Чехов бывал на Цейлоне. Правда, читая письма великого писателя, нетрудно убедиться, что это ему просто здорово повезло с Цейлоном, который он после сахалинского ада назвал истинным раем. Он так и писал в одном из писем: "Я был и в аду, каким представляется Сахалин, и в раю, то есть на острове Цейлон".
Из школьной хрестоматии мы знали, что молодой Чехов отправился в очень далекий путь по бездорожью России — на лошадях, и пешим, и на санях, и так до Сахалина. И все это будучи больным туберкулезом. Он провел на огромном острове на протяжении долгих месяцев настоящую перепись населения. Трудно поверить, что один человек способен на все это. Ну как тут не позавидовать его характеру и воле?! Ведь собрал он несколько тысяч карточек о жителях целого острова, с которыми нужно было встречаться, беседовать. Я не знаю, согласятся ли со мной чеховеды или нет, но я не очень разделяю самый факт толков и споров вокруг вопроса: а нужно ли было Чехову отправляться на Сахалин? Мол, что это ему дало, кроме обострения туберкулеза? Одни утверждают, что при таком диагнозе нельзя было вообще отправляться в такую дорогу. Другие заявляют, что он часто качался, как маятник, между Ялтой и Москвой, третьи считают, что вовремя не обратился к врачам, будучи сам врачом. Все было не так…
Все было иначе. Я лично абсолютно уверен, что он практически всегда был готов к смерти и именно поэтому хотел сжать и сузить параметры времени жизни так, чтобы вместить в один день целых два, а то и три дня. И ему всегда нужны были сшибка, взрывы, перемены. Он с детства был знаком с чувством предвидения беды. Ему было всего десять лет, когда установили диагноз: туберкулез — и уже в юности страдал кровотечением из правого легкого. И если тем не менее он отправился на Сахалин, значит, знал, что делает. Это было в 1890 году. Ему всего тридцать лет. В нем еще бурлит инерция юного Антоши Чехонте, когда писал он фельетоны и юмористические рассказы. Но именно в тот период Чехов понимал свою сверхзадачу. Это Россия. Ее действительность. Осознал, что главной темой для него являются идейные и духовные искания интеллигенции. Его раздражали обывательское существование одних и, как он писал, "душевная смиренность" других.
Короче, Чехов не только мой кумир, но и предмет исследования. Я читал не только его неповторимые рассказы, повести и пьесы, но и все опубликованные письма. В них и поэзия, и философия, и драма, и зеркало целой эпохи. И все равно на меня, думаю, как и на всех, давил некий хрестоматийный образ этакого рафинированного интеллигента, земского врача, философа в традиционном пенсне. Добрый мудрец, который изучил для преподавания анатомию души. От него веет вечностью. Я читаю чеховское "Говорят о свободе, широко пользуясь услугами рабов" — и мне кажется, что Чехов произносит эти слова сейчас, сегодня. "Кто не может взять лаской, тот не возьмет и хитростью". "Человек должен быть верующим или ищущим веры, иначе он пустой человек". Или широко известные советы: "Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает другой". "Издевательство над чужими страданиями не должно быть прощено". "Если любовь бывает жестокой и разрушительной, то причина не в ней, а в неравенстве людей". "Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения; что же национально, то уже не наука". "Никакой красотой женщина не может заплатить за свою пустоту". "Вследствие разницы миров, умов, энергий, вкусов, возрастов, умозрений равенство среди людей никогда невозможно. Неравенство поэтому следует считать непреложным законом природы. Но мы можем сделать неравенство незаметным". Ладно, хватит.
Я, можно сказать, всю жизнь занимался своего рода исследованием Чехова. Человека. Личности. Ибо мне всегда казалось, что широко распространенный хрестоматийный портрет Чехова, будь то фотопортрет или гениальная работа Ильи Репина, — это не то. Это не все. Не весь Чехов. И вот, кажется, я нашел этот образ. И нашел не где-нибудь, а на Цейлоне. До сих пор я был знаком лишь с фрагментом письма, написанного Чеховым на Цейлоне знаменитому издателю Александру Сергеевичу Суворину: "Цейлон — место, где был рай. Здесь, в раю, я сделал больше ста верст по железной дороге и по самое горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами". Я не знаю, может, где-то и опубликовано письмо это целиком. Я ведь наверняка не все читал о Чехове. Но вот на Цейлоне в Российском культурном центре встречаюсь с выпускником Российского университета имени Патриса Лумумбы Ронджаном Сенасисингхе, который написал монографию "Чехов на Цейлоне". И этот влюбленный в Чехова человек с удивительными ласковыми глазами, сам весь не черный, а именно бронзовый читает, переводя уже с сингальского на русский, текст, точнее, продолжение текста письма Чехова Суворину", но уже своими словами (русского текста в книге нет): "… насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами. И когда у меня будут дети, то не без гордости я им скажу: сукины дети, я на своем веку любил бронзовую индуску… И где же? В кокосовом лесу в лунную ночь".
Да, это тоже Чехов. Да, он часто болел. Да, он кашлял. Ему было очень тяжело на пароходе "Петербург". Он знал, что долго жить не будет. И тем не менее ему нужны были поездка на Сахалин и именно такое вот нелегкое возвращение. Ведь не случайно больше всего и, может, гениальнее всего он трудился именно после Сахалина. Биографы отмечают, что после Сахалина аж до конца века Чехов в подмосковном имении Мелихово написал более сорока действительно гениальных произведений. Этот великий пророк очень даже хорошо знал, когда умрет. Как знал и то, что он будет делать непосредственно перед смертью.
Летом 1904 года Антон Павлович и Ольга Леонардовна Книппер-Чехова выехали на курорт в Германию. Тогда гремел на весь мир курорт в немецком Баденвайлере. В ночь с 1 на 2 июля Антон Павлович проснулся. Посмотрел на жену. Улыбнулся. Впервые сам предложил позвать врача. Сам же врачу на немецком сказал: "Я умираю". Сам же перевел себя на русский. Попросил Ольгу Леонардовну дать ему полный бокал шампанского, чем очень удивил жену. Такое было впервые. Так он по-гусарски хотел приветствовать смерть. Дальше будет правильнее привести слова самой Книппер-Чеховой: "Потом взял бокал, повернулся ко мне лицом, улыбнулся своей удивительной улыбкой и спокойно сказал: "Давно я не пил шампанского…", спокойно выпил до дна. Опять улыбнулся. Тихо лег на левый бок и вскоре умолк навсегда". Это был Чехов…
Наш новый цейлонский друг Ронджан Сенасисингхе на борту "Армении" подробно рассказывал о деталях пребывания Чехова на Цейлоне. Бабас, конечно, снимал его рассказ.
А пишу я эти строки за столом, за которым сидел Антон Павлович. Может, это вовсе и не тот стол? Но главное то, что это тот остров Цейлон, который был покорен Чеховым. Остров, у причала которого стоит "Армения". Стоит парусник, который излечил наконец все свои раны и через три часа выходит в море. Ведь нас давно уже ждут в Калькутте.