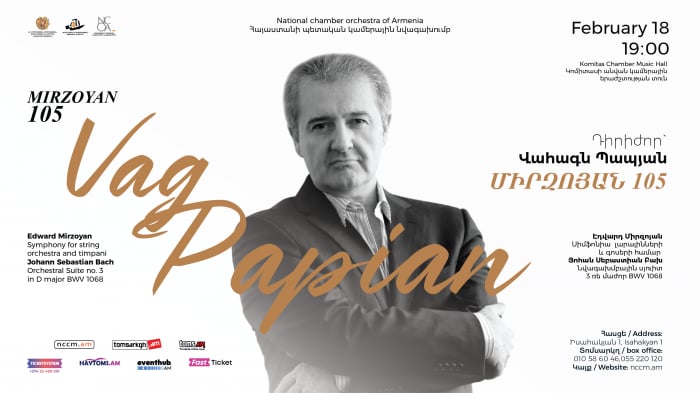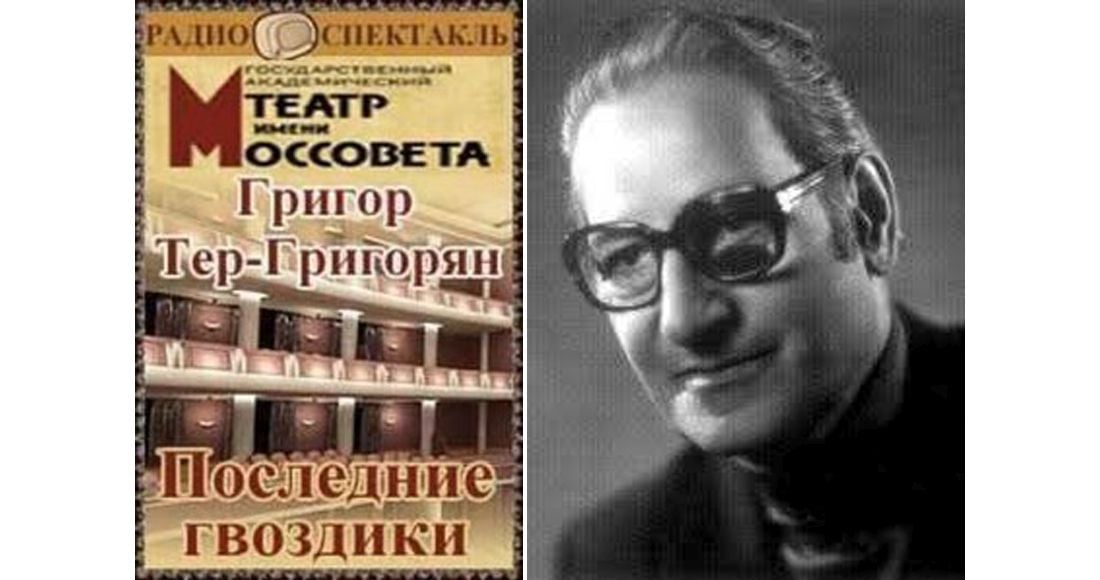Среди всех русских поэтов и писателей ХХ века, затронувших или отразивших в собственном творчестве великую трагедию армянского народа, поэт, прозаик и публицист Сергей Митрофанович Городецкий (1884-1967) занимает, пожалуй, уникальное место – он был одним из немногих русских «гражданских» очевидцев Геноцида армян 1915 года, видел собственными глазами кровь и трупы женщин, стариков и детей на пыльных дорогах и в глубоких ущельях Западной Армении, испытал весь ужас творимого нелюдями в человеческом обличье на глазах изумленно молчащего цивилизованного мира…
…Как корреспондент газеты «Русское Слово» и сотрудник Всероссийского союза городов, он прибывает в Закавказье в страшный год – пожар Первой мировой войны полыхал вовсю, русско-турецкое противостояние на Кавказском фронте, линия которого то и дело менялась, обернулось для вовлеченных в него западных армян катастрофой…
Об армянах и Армении С.Городецкий, разумеется, знал неплохо и до прибытия на Кавказский фронт: не раз бывал до этого в Тифлисе – в гостях у своей замужней сестры, общался с местными армянами. Однако верным и вечным другом Армении он стал, несомненно, благодаря знакомству с представителями армянской интеллигенции и в первую очередь с Ованесом Туманяном. Патриарх армянской поэзии при первой же встрече с Городецким в 1916г. в Тифлисе, видя некоторую его растерянность перед поездкой на театр военных действий для освещения положения на фронте, напутствовал: «Вы – поэт. Поэзия – это и есть познание жизни. Иначе она не нужна. Вы увидите жизнь страшную, жизнь народа на краю смерти. Напишите про то, что увидите, — это и будет поэзия».
Заметим, уже был позади роковой 1915-й, когда историческая родина армян фактически была почти очищена от коренного населения – османский ятаган, курдские банды и депортация в смертельные пустыни Месопотамии оставшихся в живых сделали свое черное дело…
Русский поэт во время этой печальной поездки при посещении одного из лагерей беженцев, писал: «Я был уже груб сердцем… от впечатлений войны, но, когда горное солнце озарило беженцев, я не мог удержаться и слезы хлынули у меня из глаз. Я вдруг понял, что значит народное бедствие. Та минута навсегда сроднила меня с Арменией…»
Под непосредственным впечатлением увиденного и пережитого, в частности в легендарной столице армян Ване и его окрестностях, Городецкий пишет пронзительно и остро прозвучащий в те горькие годы «армянский цикл» художественных произведений – стихотворения «Армения», «Ван», «Сад», «Руки девы», «Ребенок», «Душевнобольная», «Панихида», «Прощание», «Ангел Армении», объединенные в книгу «Ангел Армении». Вышедшая в 1918 г. и посвященная Ов.Туманяну книга эта имела большой успех в армянской среде, была отмечена передовой российской интеллигенцией.
В стихотворении «Армения» русский поэт восторженно, но в то же время с неизбывной грустью пишет:
Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью.
Друг другу двери сердца отворить!
Армения, звенящая огнем и кровью,
Армения, тебя хочу я полюбить.
Я голову пред древностью твоей склоняю
И красоту твою целую в алые уста.
Как странно мне, что я тебя еще не знаю,
Страна-кремень, страна-алмаз, страна-мечта!
С.Городецкий, однако, завершает его с неистребимой верою в светлое будущее:
Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью.
И воскресенья весть услышать над тобой,
Армения, звенящая огнем и кровью,
Армения, не побежденная судьбой!
А как лаконичен и печален слог русского поэта в великолепном стихотворении «Ван»:
Душа, огромная как море,
Дыша, как ветер над вулканом,
Вдыхает огненное горе
Над разоренным раем, Ваном.
Как жертвенное счастье,
Как сладкое мученье
В народной гибели участье,
С тенями скорбными общенье!
Привлек внимание армянского общества и неоконченный роман Городецкого «Сады Семирамиды» — о трагедии опустошенной Западной Армении, а также его статьи, очерки и корреспонденции в «Русском Слове», «Кавказском Слове», в частности — цикл «В стране ручьев и вулканов» (1916-1917). С.Городецкий справедливо считал себя продолжателем славного дела В.Брюсова, отмечая, что если Брюсов духовно «еще более подружил» Россию с Арменией, то лично он «укрепил эту дружбу стихами и работой на фронте».
…Годы спустя, подытоживая в своих воспоминаниях пройденный долгий путь, С.Городецкий признавался, что, не умаляя своей деятельности в дни пребывания на Кавказском фронте для освещения военных событий, оказание посильной помощи армянским сиротам считает одной из самых достойных страниц своей жизни. Именно в Западной Армении, «видя нищету и разорение, собирая сирот на дорогах, где белели затоптанные в прах кости армянского народа», он окончательно освобождается от иллюзий, постигает подлинную сущность коварства политики великих держав в отношении малых народов…
Действительно, бравурные и патетические речи и призывы, шум и трескотня в европейских и иных парламентах, в печати и с самых различных и высоких трибун о страданиях гибнущих на Востоке «христианских братьях-армянах» по сути не дали никаких весомых и реальных результатов: силой ятагана и невиданного дотоле зверства, под хор душещипательных сентенций, деклараций и резолюций западных и восточных «друзей» на Армянском нагорье почти исчез целый культурный народ Малой Азии и Западная Армения…
Незабываемые впечатления от Армении, тесное общение с армянским народом все более сближают С.Городецкого с армянской культурой, представителями ее интеллигенции. Достаточно сказать, что помимо Ов. Туманяна он знакомится и общается с А.Ширванзаде, Л.Шантом, В.Суренянцем, М.Сарьяном, Е.Тадевосяном, Ов. Абеляном, М.Зарифяном, М.Абегяном, Н.Агбаляном, А.Тиграняном, Ал. Спендиаровым, Д.Демирчяном, Л.Калантаром, О.Севумяном и др.
Многочисленные встречи С.Городецкого с Ов.Туманяном в 1916-1919 годах переросли в глубокую дружбу, подлинно сердечную привязанность. Русский поэт стал переводчиком многих лирических стихов Туманяна («Парвана», «Проклятая невестка» и др.). С большой любовью он написал лирический портрет своего друга в статье «Ованес Туманян». Сохранилась многолетняя переписка двух поэтов. Некоторые письма этих двух выдающихся деятелей весьма знаменательны не только в литературно-культурном плане. Так, в письме от 10 января 1918 г. Городецкий пишет армянскому поэту в ответ на его письмо того же периода: «Ваше письмо я принимаю как многозначительный акт дружбы и братства между Арменией и Россией, закрепленных кровью войны… Кавказ не может жить без России, как и Россия без Кавказа»…
Городецкий всю свою последующую жизнь сохранял теплые чувства к Армении и армянскому народу – ведь видел не только Геноцид армян, обездоленные массы беженцев и сирот, но и воскресение Армении: воодушевленно описал сложные и трудные дни становления и существования независимой Первой Армянской Республики на клочке сохраненной потомкам каменистой земли, а затем стал свидетелем подлинного расцвета близкого ему народа и приветствовал его возрождение…
Самые впечатляющие страницы жизни и творчества русского поэта-гражданина нам запомнились именно в связке событий Первой мировой войны и Геноцида армян – самой трагической страницы Армении двадцатого столетия.
…Как корреспондент газеты «Русское Слово» и сотрудник Всероссийского союза городов, он прибывает в Закавказье в страшный год – пожар Первой мировой войны полыхал вовсю, русско-турецкое противостояние на Кавказском фронте, линия которого то и дело менялась, обернулось для вовлеченных в него западных армян катастрофой…
Об армянах и Армении С.Городецкий, разумеется, знал неплохо и до прибытия на Кавказский фронт: не раз бывал до этого в Тифлисе – в гостях у своей замужней сестры, общался с местными армянами. Однако верным и вечным другом Армении он стал, несомненно, благодаря знакомству с представителями армянской интеллигенции и в первую очередь с Ованесом Туманяном. Патриарх армянской поэзии при первой же встрече с Городецким в 1916г. в Тифлисе, видя некоторую его растерянность перед поездкой на театр военных действий для освещения положения на фронте, напутствовал: «Вы – поэт. Поэзия – это и есть познание жизни. Иначе она не нужна. Вы увидите жизнь страшную, жизнь народа на краю смерти. Напишите про то, что увидите, — это и будет поэзия».
Заметим, уже был позади роковой 1915-й, когда историческая родина армян фактически была почти очищена от коренного населения – османский ятаган, курдские банды и депортация в смертельные пустыни Месопотамии оставшихся в живых сделали свое черное дело…
Русский поэт во время этой печальной поездки при посещении одного из лагерей беженцев, писал: «Я был уже груб сердцем… от впечатлений войны, но, когда горное солнце озарило беженцев, я не мог удержаться и слезы хлынули у меня из глаз. Я вдруг понял, что значит народное бедствие. Та минута навсегда сроднила меня с Арменией…»
Под непосредственным впечатлением увиденного и пережитого, в частности в легендарной столице армян Ване и его окрестностях, Городецкий пишет пронзительно и остро прозвучащий в те горькие годы «армянский цикл» художественных произведений – стихотворения «Армения», «Ван», «Сад», «Руки девы», «Ребенок», «Душевнобольная», «Панихида», «Прощание», «Ангел Армении», объединенные в книгу «Ангел Армении». Вышедшая в 1918 г. и посвященная Ов.Туманяну книга эта имела большой успех в армянской среде, была отмечена передовой российской интеллигенцией.
В стихотворении «Армения» русский поэт восторженно, но в то же время с неизбывной грустью пишет:
Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью.
Друг другу двери сердца отворить!
Армения, звенящая огнем и кровью,
Армения, тебя хочу я полюбить.
Я голову пред древностью твоей склоняю
И красоту твою целую в алые уста.
Как странно мне, что я тебя еще не знаю,
Страна-кремень, страна-алмаз, страна-мечта!
С.Городецкий, однако, завершает его с неистребимой верою в светлое будущее:
Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью.
И воскресенья весть услышать над тобой,
Армения, звенящая огнем и кровью,
Армения, не побежденная судьбой!
А как лаконичен и печален слог русского поэта в великолепном стихотворении «Ван»:
Душа, огромная как море,
Дыша, как ветер над вулканом,
Вдыхает огненное горе
Над разоренным раем, Ваном.
Как жертвенное счастье,
Как сладкое мученье
В народной гибели участье,
С тенями скорбными общенье!
Привлек внимание армянского общества и неоконченный роман Городецкого «Сады Семирамиды» — о трагедии опустошенной Западной Армении, а также его статьи, очерки и корреспонденции в «Русском Слове», «Кавказском Слове», в частности — цикл «В стране ручьев и вулканов» (1916-1917). С.Городецкий справедливо считал себя продолжателем славного дела В.Брюсова, отмечая, что если Брюсов духовно «еще более подружил» Россию с Арменией, то лично он «укрепил эту дружбу стихами и работой на фронте».
…Годы спустя, подытоживая в своих воспоминаниях пройденный долгий путь, С.Городецкий признавался, что, не умаляя своей деятельности в дни пребывания на Кавказском фронте для освещения военных событий, оказание посильной помощи армянским сиротам считает одной из самых достойных страниц своей жизни. Именно в Западной Армении, «видя нищету и разорение, собирая сирот на дорогах, где белели затоптанные в прах кости армянского народа», он окончательно освобождается от иллюзий, постигает подлинную сущность коварства политики великих держав в отношении малых народов…
Действительно, бравурные и патетические речи и призывы, шум и трескотня в европейских и иных парламентах, в печати и с самых различных и высоких трибун о страданиях гибнущих на Востоке «христианских братьях-армянах» по сути не дали никаких весомых и реальных результатов: силой ятагана и невиданного дотоле зверства, под хор душещипательных сентенций, деклараций и резолюций западных и восточных «друзей» на Армянском нагорье почти исчез целый культурный народ Малой Азии и Западная Армения…
Незабываемые впечатления от Армении, тесное общение с армянским народом все более сближают С.Городецкого с армянской культурой, представителями ее интеллигенции. Достаточно сказать, что помимо Ов. Туманяна он знакомится и общается с А.Ширванзаде, Л.Шантом, В.Суренянцем, М.Сарьяном, Е.Тадевосяном, Ов. Абеляном, М.Зарифяном, М.Абегяном, Н.Агбаляном, А.Тиграняном, Ал. Спендиаровым, Д.Демирчяном, Л.Калантаром, О.Севумяном и др.
Многочисленные встречи С.Городецкого с Ов.Туманяном в 1916-1919 годах переросли в глубокую дружбу, подлинно сердечную привязанность. Русский поэт стал переводчиком многих лирических стихов Туманяна («Парвана», «Проклятая невестка» и др.). С большой любовью он написал лирический портрет своего друга в статье «Ованес Туманян». Сохранилась многолетняя переписка двух поэтов. Некоторые письма этих двух выдающихся деятелей весьма знаменательны не только в литературно-культурном плане. Так, в письме от 10 января 1918 г. Городецкий пишет армянскому поэту в ответ на его письмо того же периода: «Ваше письмо я принимаю как многозначительный акт дружбы и братства между Арменией и Россией, закрепленных кровью войны… Кавказ не может жить без России, как и Россия без Кавказа»…
Городецкий всю свою последующую жизнь сохранял теплые чувства к Армении и армянскому народу – ведь видел не только Геноцид армян, обездоленные массы беженцев и сирот, но и воскресение Армении: воодушевленно описал сложные и трудные дни становления и существования независимой Первой Армянской Республики на клочке сохраненной потомкам каменистой земли, а затем стал свидетелем подлинного расцвета близкого ему народа и приветствовал его возрождение…
Самые впечатляющие страницы жизни и творчества русского поэта-гражданина нам запомнились именно в связке событий Первой мировой войны и Геноцида армян – самой трагической страницы Армении двадцатого столетия.