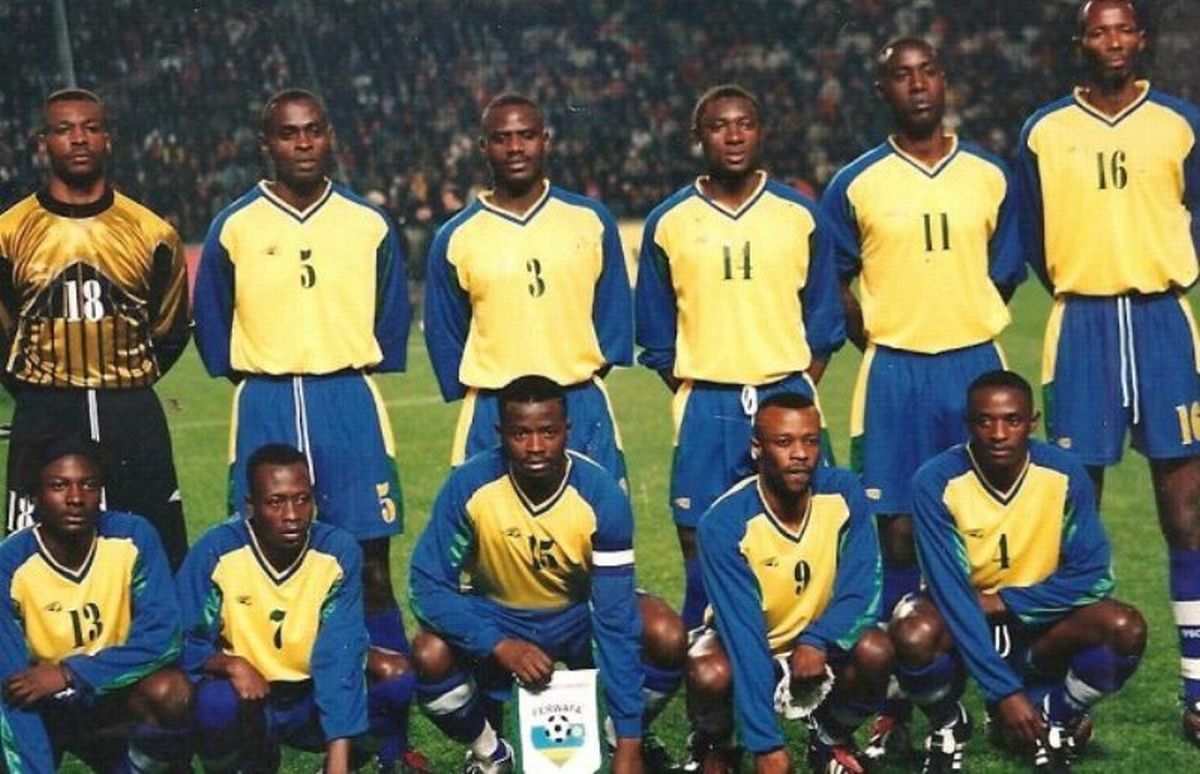Среди театралов Драматический театр им. Г. Капланяна называют Ереванским Шекспировским. Неудивительно – за четыре десятка лет своего существования театр постоянно обращался к произведениям великого драматурга всех времен и народов. И сегодня в его репертуаре два шекспировских шедевра – "Ромео и Джульетта" и "Макбет". Вернее, уже три – на прошлой неделе на сцене Драматического театра состоялась премьера спектакля "Юлий Цезарь" в постановке народного артиста РА Армена Хандикяна.
Постоянное обращение к драматургии Шекспира – творческое кредо художественного руководителя Драматического. "Если актер может играть Шекспира, он вправе считаться артистом, наличие в репертуаре его пьес – залог планки, которую держит театр", — считает Армен Хандикян. Впервые за "Юлия Цезаря" он взялся восемь лет назад. Тогда замордованный жизнью зритель, жаждущий развлечений, на мрачноватую, полную политических параллелей с днем сегодняшним "мужскую" трагедию пошел не слишком хорошо. И критерии рынка, часто идущие в разрез с критериями творческими, заставили театр отказаться от спектакля. Спустя восемь лет Хандикян – отважный человек к "Цезарю" вернулся. Наверное потому, что не вернуться не мог.
Стихия игры для Армена Хандикяна – воздух театра. Сама история для него — череда сменяющихся мизансцен. Тога, камзол, фрак, кожанка – все это маски, которыми прикрывается исторический произвол и которые надевает "историческая необходимость". И режиссер обращается к Шекспиру – к истоку безбрежной литературы, в которой рассказывается, из какого материала делаются диктаторы, как создаются кумиры и как фабрикуется коллективный психоз. Человек, глубоко и всерьез владеющий мировой культурой – и это в новом спектакле проявляется особенно отчетливо, — ставит не знание "эпохи", а мысль об эпохе. Эпохе великого Рима и сегодняшней Армении. И за основу он берет не перевод Масеяна – эхо великолепных театральных празднеств, сверкающий перевод, выполненный высоким стихом и прозой. Хандикян предпочитает Даштенца – земной язык нелегких трудов и таинственный, отчасти темный язык прорицаний.
Действие первого акта происходит не в Римской империи I века до н.э., не в эпоху Возрождения, не в наши дни, даже не в календарную ночь на Мартовские Иды, когда был убит Цезарь, а просто — ночью. Ночь здесь реальное обстоятельство времени и обобщенное условие бытия. Ночью происходят тайные встречи и заговоры, ночью принимаются доносы и замышляются преступления. Ночь – сообщница узурпаторов, силящихся захватить власть. И здесь обрастают плотью предвосхищения, которым еще не раз за историю человечества предстояло оформиться, стать действительностью, обрасти датами и обзавестись лозунгами.
Берясь за "Юлия Цезаря", Хандикян не только в очередной раз обратился к Шекспиру – режиссер вернулся к теме, неоднократно поднимаемой им и в иных, нешекспировских спектаклях, теме не просто важной, но, может быть, главной для режиссера. Экстатические миги человеческого бытия и личность. Место большой личности в большой истории. В антракте спектакля Армен Самвелович рассказывал о том, как во время сдачи того, первого "Цезаря" к нему обратился Левон Ахвердян: "Я что-то не понял, на чьей же ты стороне?" — "А разве я должен быть на чьей-то стороне?" — ответил тогда вопросом на вопрос режиссер. Тем не менее Хандикян "на стороне" — на стороне Цезаря. Может быть, не великого кесаря, угрожающего стать диктатором, но на стороне великой исторической личности, Гая Юлия Цезаря. На стороне льва, подло убитого крысами.
В замечательном оформлении Карена Григоряна, где какие-то фрагменты недостройки или великой стройки – ох, как знакомо – сочетаются с гранитной колонной, увенчанной капителью и пробившейся по середине арматурой – блеск и изнанка Великого Рима, есть контрапункт. Возвышающаяся над всеми и вся залитая кровью статуя, пронзенная кинжалами. Это, конечно, Цезарь. Но фигура эта один к одному повторяет Св. Себастьяна с классических полотен Возрождения. И образ Цезаря обретает ореол мученика — обреченного самопожертвования или искупительной жертвы. Сохранилась скорее легенда, чем исторический факт: толпа, ведомая Савонаролой громить дом Медичи, ворвалась во двор дворца, где стоял готовый, но еще не воздвигнутый на пьедестал "Давид" Микеланджело. И толпа отступила перед величием красоты. В спектакле Хандикяна толпа не отступила перед изваянием Цезаря, и настоящий хаос и ад начались не тогда, когда правителя убили, но когда подвергли поруганию саму память о великом человеке.
Рим, согласно режиссеру, должен пасть и потому, что отвык снимать шляпу в присутствии смерти. Кривляясь, бродячие актеры разыгрывают кровавую трагедию, в которой Эдуард Гаспарян, уже бывший слуга Цезаря, танцует страшный "данс макабр" — Рим переполняют ненависть и страх, но в нем нет скорби, поэтому его музыка так страшна, а люди так безобразны. Можно восхищаться тем, с какой тщательностью, с какой не живописностью, но перекличками с образами из великой живописи выстроены массовые сцены — каждый со своей пластикой, со своей мимикой, со своим смешком. Но все они – одно лицо и все вместе создают своеобразный кордебалет черни.
Первый акт завершается наэлектризованной, невероятно сильной по эмоциональному воздействию сценой убийства в Сенате – искаженные страхом, упоенные эйфорией бунта какие-то брейгелевские лица участников заговора. Во втором акте эта мизансцена повторится с абсолютной точностью, но трагедия в исполнении черни получит пронзительное фарсовое звучание. И воспламененное массовое сознание, опьяненное расхристанным сознанием бунта, под знаком Свободы и Независимости начнет рождать чудовищ…
Новая редакция "Юлия Цезаря" стала не только вехой в истории Драматического театра – она стала творческой вехой для многих исполнителей. И не только для молодых актеров, каждый из которых, даже в маленькой роли, стал неотъемлемой краской спектакля. Григор Габриелян, проработавший в Драматическом долгие годы, затем из театра ушедший, вновь вернувшийся и уже успевший сыграть несколько ролей, тем не менее, кажется, только сейчас отметил свое истинное возвращение. Перед актером стояла задача вдвойне трудная – Цезарь, на которого был заявлен легендарный Владимир Мсрян. Г. Габриеляну не просто удалось справится, но стать своеобразным камертоном, задавшим эмоциональный тон спектакля. Его Цезарь – не живое изваяние величия власти, а живой, рефлексирующий человек, способный испугаться мрачных снов Кальпурнии и, устыдившись этого страха, перешагнуть через предчувствие смерти. А выразительная фактура актера вкупе с глубокой эмоциональной наполненностью заставили зрителя поверить не только в харизму Цезаря, но и в символ-знак, подобный библейским знамениям наступающих бедствий и катастроф, в почти гамлетовский Призрак – в Цезаря, в карающем присутствии которого происходят смерти тех, кто его вероломно убил.
Еще одним открытием нового спектакля стал Григор Хачатрян, молодой герой театра, неожиданно явившийся в роли Кассия. Он играет прежде всего ум – ум яростный, ум низкий, ум воспаленный. С бледной физиономией, всегда без улыбки, сжигаемый каким-то несогревающим и очень злобным огнем, этот человек говорит без умолку. Он ненавидит молчание – он ненавидит весь свет. С невропатической пластикой и истерическими интонациями он играл не параноика с дурной наследственностью, о чем говорится у Шекспира, но черную злость и зависть, что способны стать одержимостью и страстью.
Вослед режиссеру Артур Утмазян в этом спектакле так же продолжил начатый разговор – тему Иуды, одну из замечательнейших ролей в арсенале артиста. Иуда, продавший не за тридцать жалких сребреников, но ставший орудием судьбы. Брут, предавший Цезаря потому, что таков был его фатум, его рок. Роком этим он мучался, но противиться ему был не в силах. Искренне любящий Цезаря апологет, может быть, даже сын, в образе человека страшных дел. Утмазян играл "мильон терзаний", порывы судорожно напряженной души сдержанно, а потому вдвойне сильно.
Марк Антоний – Грачья Арутюнян – не брутальный воитель и даже вряд ли благородный рыцарь. В этом хаотическом апокалипсисе и клубке политических интриг вообще сложно поверить в чье-либо романтическое благородство. Вот и в честности и преданности Антония читается тонко завуалированный бесконечным обаянием актера расчет. Его внутренние монологи полны горьких раздумий, а большой монолог Антония становится словно итоговой формулой спектакля. И остается ощущение — Марк Антоний победил не потому, что защищал правое дело, но потому, что в этом горячечном похмелье бунта единственный не терял головы. По формальному приему – посреди массовой истерии он один говорил тихо, почти шепотом. И был обречен победить. К финалу на сцене – гора трупов. Узурпаторы и бунтари умерли. Дальше – тишина?
Итак, Армен Хандикян и его команда создали спектакль, обращенный к уму и сердцу зрителя, верный всегдашней эстетности Драматического и его художественной эстетике. Но, может быть, главное здесь даже не в этом. "Юлий Цезарь" создан людьми, глубоко взволнованными темой поднятого им разговора. Наверное, именно поэтому он волнует до глубины души.