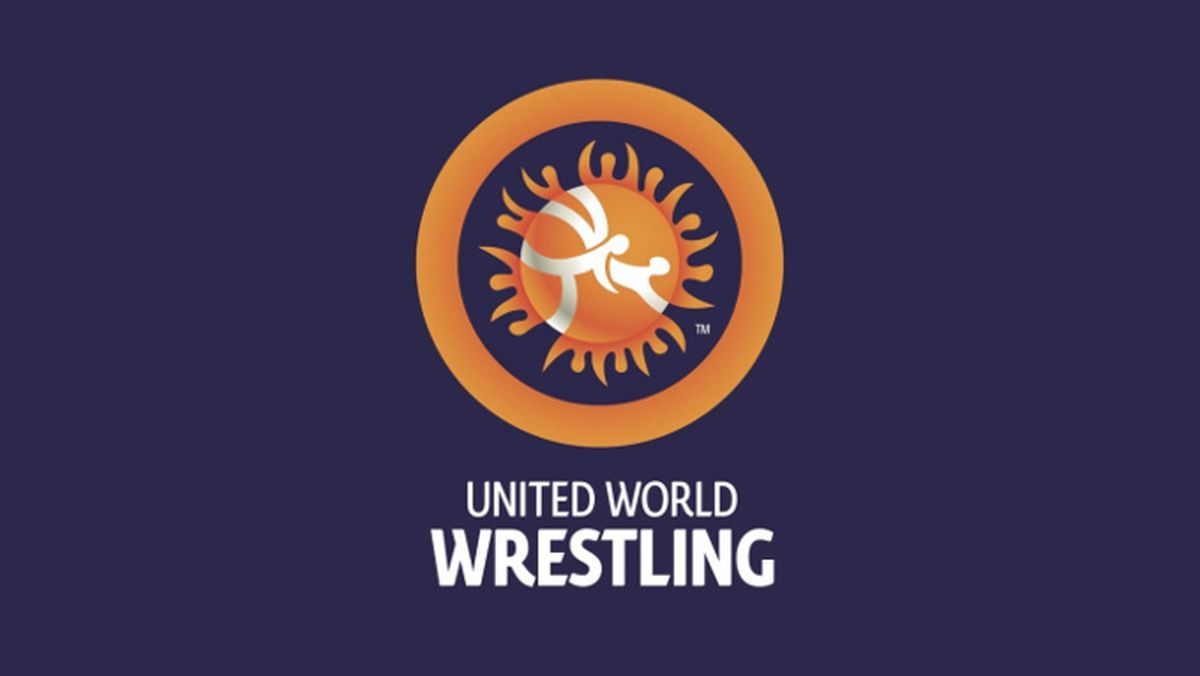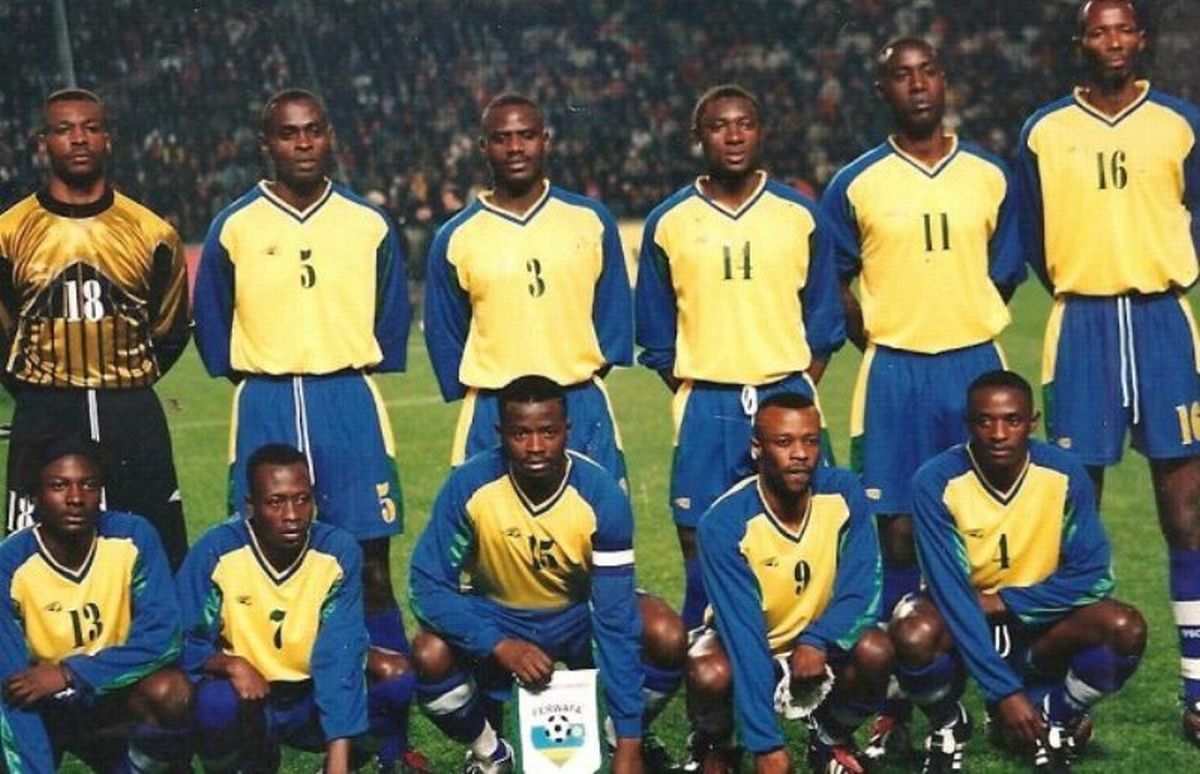Браться за сценическое воплощение произведений писателя, ставшего культовым для целого поколения достаточно молодых еще людей, которые им зачитывались, цитировали, пытались подражать, – дело авантюрное, можно сказать — рисковое. Но кто не рискует… В Государственном русском театре им. Станиславского состоялась премьера спектакля "Абанамат, или Когда-то мы жили в горах", поставленного художественным руководителем театра Александром Григоряном по рассказам Сергея Довлатова.
Стимулом к постановке в какой-то мере стали чувства родственные: проживший в Москве едва ли не всю жизнь племянник Александра Самсоновича Константин Балаян относится именно к тому самому поколению, которое зачитывалось и цитировало. "Мне кажется, что Котик всего Довлатова знает наизусть", — говорит Григорян. Данью любви Константина Балаяна к писателю стал сценический коллаж из рассказов, принадлежащих разным периодам и сборникам – "Зона", "Наши", "Иностранка", "Чемодан", — прошедший соавторскую редактуру Григоряна.
.jpg) Позволю себе совет многочисленным поклонникам творчества Довлатова, уже направившим свои стопы к Русскому театру в надежде синхронно с актерами шепотом повторять любимые тексты. Оставьте на время в стороне вопрос о том, что при чтении Довлатова смакуешь не его диссидентство и даже неповторимый юмор: голова кружится не столько от движения событий, сколько от движения слов, от самого их рядомстояния — и театр здесь, вероятно, навсегда и решительно ни при чем.
Позволю себе совет многочисленным поклонникам творчества Довлатова, уже направившим свои стопы к Русскому театру в надежде синхронно с актерами шепотом повторять любимые тексты. Оставьте на время в стороне вопрос о том, что при чтении Довлатова смакуешь не его диссидентство и даже неповторимый юмор: голова кружится не столько от движения событий, сколько от движения слов, от самого их рядомстояния — и театр здесь, вероятно, навсегда и решительно ни при чем.
Несомненно, берясь за рисковое дело, постановку "Абанамат", Григорян это понимал. И нашел-таки ход, во многом адекватную замену. Главное в спектакле — необычайная концентрация речевой энергии, высочайшая интенсивность слова. Речь здесь пронзительна, живописна, порой очень смешна – актеры создают карнавал интонаций, адекватный карнавалу довлатовских слов, актеры играют и перебрасываются интонациями, как воздушные акробаты. Возможно, в другом, "каноническом" спектакле они не были бы так смелы, так находчивы, так азартны в своих, зачастую шаржированных интонационных характеристиках. Это то, что в спектакле наиболее тщательно проработано, что с театральной точки зрения наиболее удалось. И это то, что делает его реально довлатовским.
…"Дед был высок, элегантен и горд. Вся семья ему беспрекословно подчинялась. Он же – никому. Включая небесные силы. Один из поединков моего деда с Богом закончился вничью. Я часто стараюсь понять, отчего мой дед был таким угрюмым? Что сделало его мизантропом?.. Человек он был зажиточный. Обладал представительной внешностью и крепким здоровьем. Имел четвертых детей и любящую, верную жену. Возможно, его не устраивало мироздание как таковое? Полностью или в деталях? Например, смена времен года? Нерушимая очередность жизни и смерти? Земное притяжение? Не знаю…" — это у Довлатова. А в распоряжении Сергея Магаляна одно сакраментальное слово "абанамат!", значение которого долгие годы не понимала вся семья. И на одном этом слове и за две минуты сценического времени актеру удается создать образ мифический, библейский – образ основателя армянского рода. Образ этот станет в спектакле темой, а потом и лейтмотивом: когда-то мы жили в горах…
.jpg) Таких работ, подтверждающих, что нет маленьких ролей, есть разные артисты, в спектакле много. На сцене 33 исполнителя 68 ролей! И хочется аплодировать режиссеру не за то, как детально продумано и композиционно организовано порой одновременное существование на сцене такого количества людей, а за то, что актерская масса не становится массовкой. Ерванд Енгибарян, Арман Казарян, Роберт Акопян, играющие в одном спектакле такие разные персонажи, и для каждого у актеров нашлись свои краски, свои речевые характеристики – никакой игры вообще", все емко, выпукло, ярко. Сергей Григорян в роли уголовника, играющий Ленина в "смотре зековской самодеятельности" — острый гротеск, пародийность и похожесть, которые можно смело выпускать отдельным концертным номером. "Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, очнись и поддадим!"
Таких работ, подтверждающих, что нет маленьких ролей, есть разные артисты, в спектакле много. На сцене 33 исполнителя 68 ролей! И хочется аплодировать режиссеру не за то, как детально продумано и композиционно организовано порой одновременное существование на сцене такого количества людей, а за то, что актерская масса не становится массовкой. Ерванд Енгибарян, Арман Казарян, Роберт Акопян, играющие в одном спектакле такие разные персонажи, и для каждого у актеров нашлись свои краски, свои речевые характеристики – никакой игры вообще", все емко, выпукло, ярко. Сергей Григорян в роли уголовника, играющий Ленина в "смотре зековской самодеятельности" — острый гротеск, пародийность и похожесть, которые можно смело выпускать отдельным концертным номером. "Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, очнись и поддадим!"
Сильно поддающих в спектакле, как и среди персонажей Довлатова, немало. Но Манвел Хачатрян в крошечной роли алкаша из Михайловского, где Довлатов работал экскурсоводом, – это не просто органика и детальная проработанность, это судьба и биография. И из таких вот коротких судеб и биографий Александр Григорян складывает большую судьбу и биографию страны, судьбу и биографию эпохи с ее абсурдом и "трудовыми буднями", цинизмом и романтикой, лирическими и блатными песнями, чекистами и диссидентами, интернационалистами и антисемитами, интеллигентами и алкашами, журналистами и эмигрантами… И здесь в полном соавторстве с режиссером выступают художники: приглашенный из Ростова сценограф Степан Зограбян и создатель костюмов Инна Севунц. Созданная Степаном Зограбяном пирамида из книг Сергея Довлатова начинается от самых ведущих на сцену лестниц и доходит едва ли не до колосников. Она может служить пьедесталом вождю мирового пролетариата и коню Медного всадника, превращенному, словно карикатура из "Крокодила", в Пегаса, может служить подножием статуе Свободы, и все-таки останется почти живым памятником писателю, собранным из его книг.
 "Можно благоговеть перед умом Толстого. Восхищаться изяществом Пушкина. Ценить нравственные поиски Достоевского, юмор Гоголя. И так далее. Однако похожим быть хочется только на Чехова" — спектакль можно было бы упрекнуть в недостатке внимания к такому Довлатову, если бы не одна сцена, которая дорогого стоит. Прощание Довлатова с пока еще бывшей женой, уезжающей в Америку, – особая концентрация скрытых эмоций, дающая ощущение неумершей любви абсолютно физическое. В роли Елены Довлатовой Анна Баландина. Новая удача в копилку молодой актрисы. Она едва ли не самая верная и чистая нота спектакля, во всех смыслах этих слов. Впрочем, все их смыслы хороши. Внешним обликом и внутренним звучанием она женщина того времени и той среды с рефлексиями, с какой-то звенящей струной, в меру зачуханная и безмерно любящая.
"Можно благоговеть перед умом Толстого. Восхищаться изяществом Пушкина. Ценить нравственные поиски Достоевского, юмор Гоголя. И так далее. Однако похожим быть хочется только на Чехова" — спектакль можно было бы упрекнуть в недостатке внимания к такому Довлатову, если бы не одна сцена, которая дорогого стоит. Прощание Довлатова с пока еще бывшей женой, уезжающей в Америку, – особая концентрация скрытых эмоций, дающая ощущение неумершей любви абсолютно физическое. В роли Елены Довлатовой Анна Баландина. Новая удача в копилку молодой актрисы. Она едва ли не самая верная и чистая нота спектакля, во всех смыслах этих слов. Впрочем, все их смыслы хороши. Внешним обликом и внутренним звучанием она женщина того времени и той среды с рефлексиями, с какой-то звенящей струной, в меру зачуханная и безмерно любящая.
Самая тяжелая задача стояла перед Фредом Давтяном, фамилия которого в программке спектакля значится перед "текст от автора читает" и которому в спектакле не раз приходится становиться непосредственно автором. Актер очень тонко накладывает швы. Легкая отстраненность – на уровне внутреннем, а не мизансцены – сменяется "включениями" живыми, теплыми, ироническими при полном отсутствии любых попыток "играть Довлатова". И такой подход становится психологически нетривиальным и убедительным.
Уже в антракте "Абанамат" пришлось услышать мнения о том, что Довлатов все-таки остался в той эпохе, по отношению к которой был диссидентом, что время заставило многое пересмотреть и переосмыслить, что сегодня в то недалекое в общем-то вчера можно смотреть даже с ностальгией… Может быть, предвидя подобную реакцию, Григорян не только стилистику второго акта сделал заметно отличной от первого, но придумал достаточно неожиданный, духоподъемный финал. Понятно, — в последние годы жизни Довлатова стал печатать престижнейший "Нью-Йоркер", в год у него выходило по книге, он стал всемирно известным писателем и сильно обеспеченным человеком — скажете вы, и будете не правы. Сюжет "Абанамат" завершается на переезде в Америку, на участи эмигранта, чтобы, неожиданно сделав вираж, вернуться к началу, к истоку, к почти мифологическому деду-предтече, к тем временам, "когда мы жили в горах".
Сцена обретает образ фрески, с которой сходит девушка в белом покрывале (Нора Григорян), не печально, а как-то светло поющая "Дле яман". И стройный юноша, недавно поступивший в труппу Русского театра Арсен Левонян, поднимающий невесту на руки. И Дед в барашковой папахе с громовым голосом и непременным "абанаматом". И полотно Сарьяна, золотящееся на заднике. И музыка, которую уже и не расслышать за аплодисментами и криками "браво!" Так что, скорее всего, Довлатов простил бы "отступивших" от него создателей спектакля, посвятивших свою новую работу автору – с любовью.