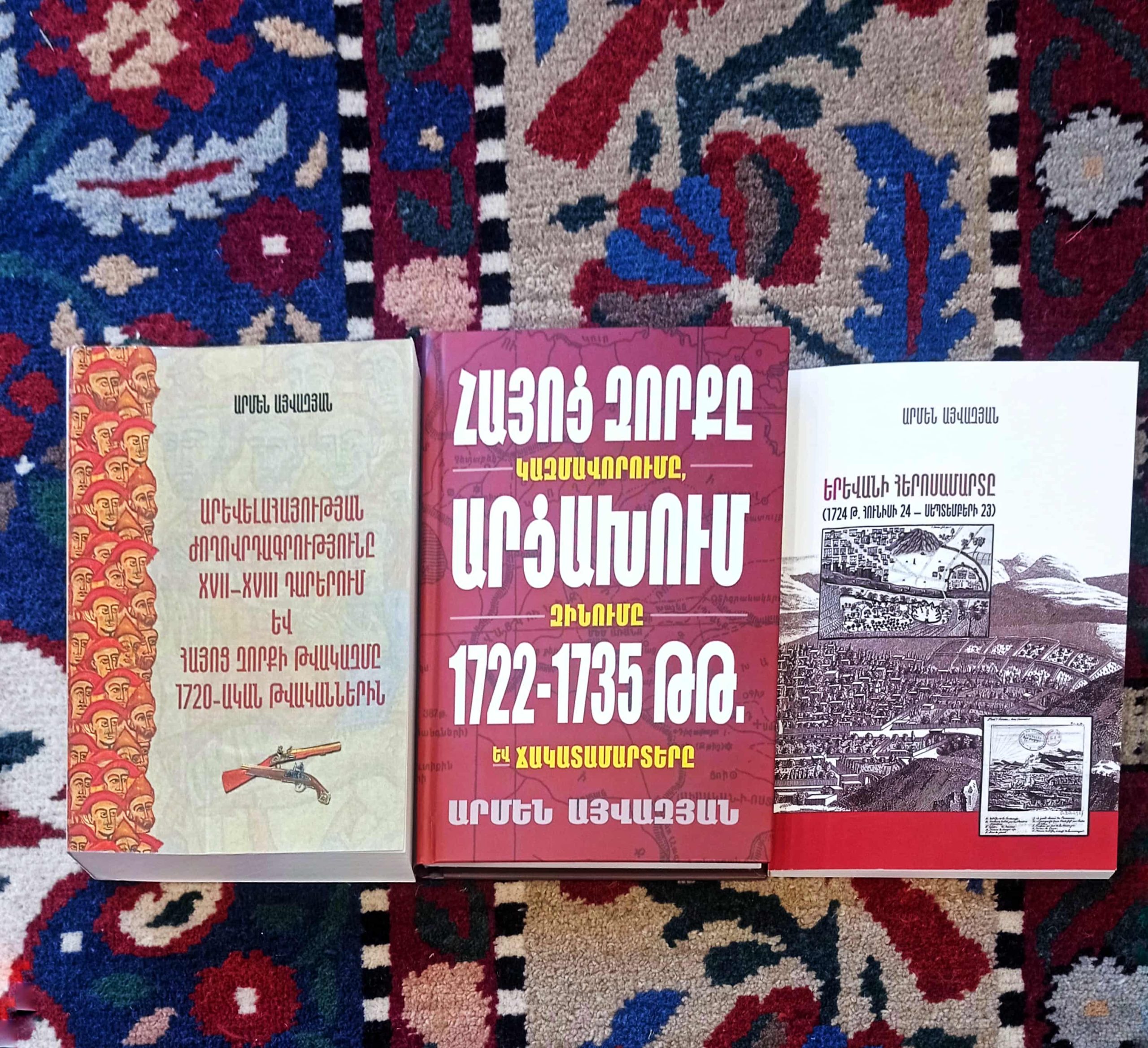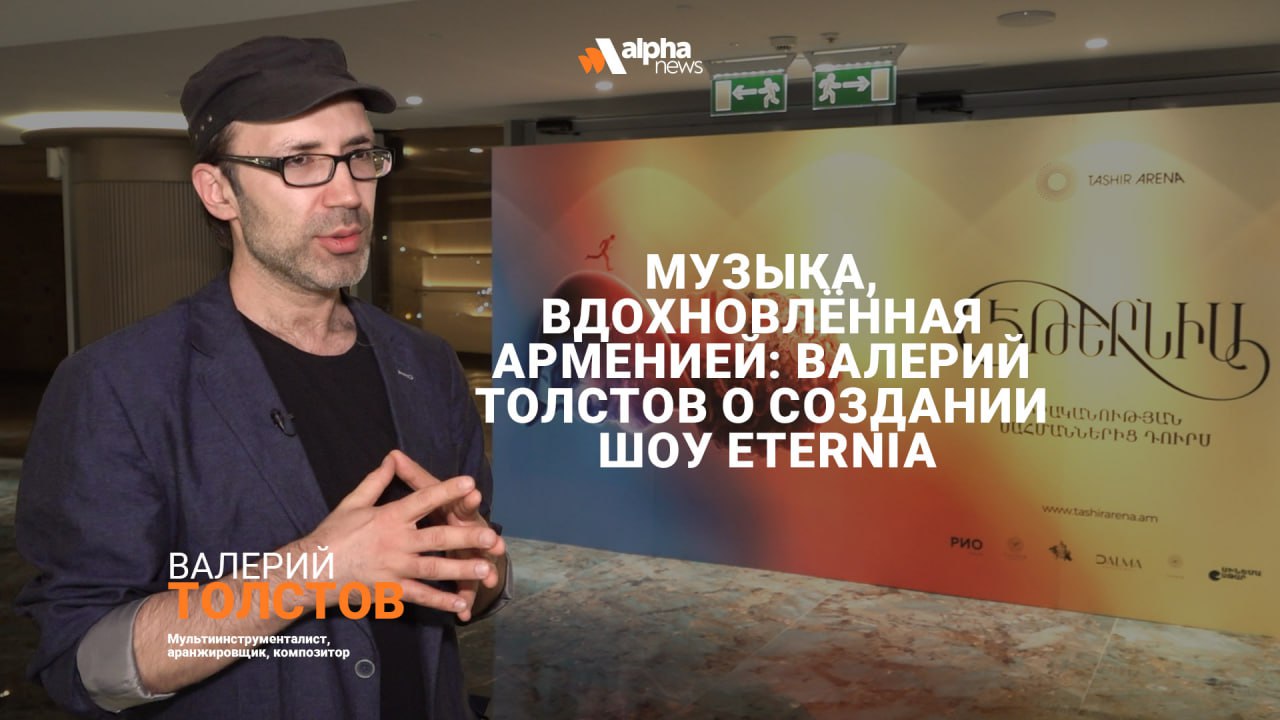Творчество Мартироса Сарьяна, и особенно его ранний период, своей впечатляющей силой продолжает вызывать интерес среди специалистов и художественной общественности как у нас, так и за рубежом. Оно включается в число наиболее оригинальных и неповторимо своеобразных явлений эпохи начала XX века. Вот отчего появилась необходимость переиздать одно из исследований Арарата АГАСЯНА двадцатилетней давности о раннем периоде творчества художника. В предисловии к новому изданию книги «Символизм и творчество Мартироса Сарьяна» автор, возглавляющий сегодня Институт искусств НАН, напоминает о том, что эта работа два десятилетия назад в силу известных обстоятельств обошлась без иллюстраций. Но это, можно сказать, было ей «не к лицу», так как говорить о творчестве художника без отсылок к иллюстративному материалу невозможно. На этот раз книга вышла в свет с одноименным текстом, на отличной бумаге и с 51 иллюстрацией. Только досадно, что среди них нет тех репродукций русских и европейских художников, о которых упоминается в тексте.
Творческое новаторство Мартироса Сарьяна ознаменовало поворот армянского искусства и вывело его на авансцену международной культуры XX века. Этот феномен в армянской культуре был и неожиданным, и ожидаемым, ибо Сарьян всем своим творчеством ответил на требование времени и на мощной волне национального самосознания перед лицом мира создал образ Армении. Неожиданным для нас было то, что на первом этапе творчества он вобрал в себя чужой поэтический мир, но сделал его своим. Это явление и стало предметом исследования Арарата Агасяна.

Находившийся в авангарде русской живописи молодой М.Сарьян в самом начале XX века заявляет со всей определенностью о своей мировоззренческой позиции, несмотря на лишь первые шаги в искусстве. Такая зрелость юного Сарьяна может показаться парадоксальной. Но все становится на свои места, когда в его творчестве уже всплывают такие факторы, как происхождение, творческая память, — корни, которые посылают мощные токи, пробуждая патриотические настроения. Для Сарьяна решался вопрос соотношения творческих исканий с классическим наследием и традициями средневековой культуры, которая служила важной вехой и духовной опорой в его поисках. Эмоциональная восприимчивость художника не могла миновать влияния русского символизма, явления, получившего право на жизнь в России лишь к 1907 году и перекликающегося с европейским символизмом и модерном.
Сарьяновскую музу в те годы влечет миф о человеке, который вечен, как и мир, в котором он живет. Острая новизна изображения этого реального мира полна таинственности, лирической романтики и чисто восточного сонного ритма, о чем уже говорят названия его работ, выдержанных в эстетике символизма («У моря», «Озеро фей», «Сказка долин. Орфей», «Влюбленный в Змейку» и др.). Символизм, охвативший Запад и русское искусство, был в основном наднациональным, в то время как в сарьяновских работах ощущается явное отклонение в сторону ориентализма.
А. Агасян разворачивает историю европейского и русского символизма и со всей научной скрупулезностью вживается в его обстановку, проявляя историческое знание материала. А оно, как известно, полнее и точнее материала критического, пишущегося по горячим следам. Как настоящий исследователь, А.Агасян умеет жить в «удвоенном времени» — в том, которое он исследует, в неповторимом и невозвратном и в сегодняшнем, с его стремлением объективно реконструировать и переосмысливать прошлое. Каждая деталь, каждый факт, относящийся к исследуемому периоду, учтены им с целесообразной меткостью, все вводится для осмысления образа художника в определенный этап истории и в контексте его художественной жизни. Автор прослеживает влияние этого культурного кода на раннее сарьяновское творчество. Обладая своим научным почерком, Агасян освещает заявленную в заголовке тему, выуживая из круговорота тогдашней художественной критики достаточно убедительные аргументы, подтверждающие начало и конец концепции сарьяновского глубоко пантеистического созерцательного символизма, который никогда не был для художника модой.
Можно сказать, что ни одно исследование творчества Сарьяна не обладает таким обилием попутно привлеченного материала и такой обширной библиографией, что свидетельствует о теоретической эрудиции автора. Причем ни одна из приведенных ссылок не выглядит ненужной или отвлекающей. Все они направлены на то, чтобы вызвать у читателя (любого — и квалифицированного, и не очень) цельный образ времени и определить в нем место раннего Сарьяна. А.Агасян улавливает сарьяновскую интонацию и ведет к ее раскрытию с помощью образного и формального анализа. Автор выделяет сарьяновское творчество этого периода из многообразия родственных ему проявлений, и в первую очередь в русском искусстве, с помощью последовательно-системного подхода, делая акцент на неповторимом индивидуальном характере поэтического мышления Сарьяна. «Сочетание мечты и реальности, конкретного наблюдения и поэтической трансформации… — так А.Агасян определяет одну из работ начала 1900 годов, но слова эти звучат обобщающе для всего этого периода.

Анализируя работы художника второй половины 1900 годов, сравнивая их с произведениями широкого круга современников (П.Кузнецова, П.Уткина, С.Судейкина, Ф.Милиоти и др.), автор вновь подтверждает связь сарьяновского символизма с действительностью, отвергающего любой мистический оттенок. В своем символизме Сарьян ближе к природе, «очеловеченной и одушевленной», но цвет у художника скорее эмоциональный, субъективный, взятый в отрыве от реального освещения. Именно московская школа символизма во главе с В.Брюсовым и К.Бальмонтом объявляла целью искусства эмоциональный опыт художника. Чутко восприимчивый к поэзии, М.Сарьян, сам сочинявший стихи на русском языке, был в этом смысле близок к поэтическому символизму. Но художник никогда не страшился резких поворотов, если они возникали как логический этап эволюции.
Впервые посетив Армению, Сарьян был поражен цветовой гаммой и пластической мощью родины. Он резко меняет палитру, в которой уже просматривается его творческая индивидуальность, проникнутая спецификой национального характера и духа. Его живопись постепенно вызревает, готовясь к большой форме. Знакомство с новой французской живописью начиная с 1906 года стимулировало его поиски, а находки лишь подтверждались творчеством таких художников, как Матисс, Ван Гог, Гоген, Сезанн. А.Агасян подчеркивает обостренное внимание к этим именам и их искусству в России благодаря щукинской коллекции, которая вдохновляла художников, порождала поклонников, знакомила с проблемами европейской живописи. Но окрыленность Сарьяна носила иной характер: он искал внутреннюю причину этих новаций, их скрытый нерв и родственность своим поискам.
А. Агасян помогает читателю уловить общность в творческих устремлениях Сарьяна и родоначальников французского постимпрессионизма. Внедренные корнями в совершенно противоположные традиции, обладающие совсем разными темпераментами и индивидуальными особенностями, они так же исступленно любят природу Юга, отождествляемого ими с солнцем, «источником всего живого, средоточием жизни». Агасян подчеркивает, что в творчестве великих художников восприятие природы и человека совпадает по своей сути. Для подтверждения этого вывода он сводит вместе «Портрет старика крестьянина» и «Сеятеля» Ван-Гога и «Автопортрет», «Пахаря» Сарьяна. Это говорит о том, что познание тайны природы и человека исключено из сиюминутной истории. Оно, это познание, стремится к тем граням смысла, которые уже далеки от символических функций.
А. Агасян останавливается на пороге того периода, когда происходит окончательный поворот к здравому реализму, когда в работах Сарьяна появляются произведения жанрового характера, обнаруживающие связь с реальностью. Ведь именно армянские горы стали тем потрясшим его переживанием, давшим ему духовную и творческую силу, которая и породила новое качество его живописи. Но это уже совершенно новая страница творчества, начатая с 1909 года, когда даже названия работ («Гиены», «Зной. Бегущая собака», «Утро в Ставрине» и др.) говорят о разрыве с идеями символизма.
Творческое новаторство Мартироса Сарьяна ознаменовало поворот армянского искусства и вывело его на авансцену международной культуры XX века. Этот феномен в армянской культуре был и неожиданным, и ожидаемым, ибо Сарьян всем своим творчеством ответил на требование времени и на мощной волне национального самосознания перед лицом мира создал образ Армении. Неожиданным для нас было то, что на первом этапе творчества он вобрал в себя чужой поэтический мир, но сделал его своим. Это явление и стало предметом исследования Арарата Агасяна.

Находившийся в авангарде русской живописи молодой М.Сарьян в самом начале XX века заявляет со всей определенностью о своей мировоззренческой позиции, несмотря на лишь первые шаги в искусстве. Такая зрелость юного Сарьяна может показаться парадоксальной. Но все становится на свои места, когда в его творчестве уже всплывают такие факторы, как происхождение, творческая память, — корни, которые посылают мощные токи, пробуждая патриотические настроения. Для Сарьяна решался вопрос соотношения творческих исканий с классическим наследием и традициями средневековой культуры, которая служила важной вехой и духовной опорой в его поисках. Эмоциональная восприимчивость художника не могла миновать влияния русского символизма, явления, получившего право на жизнь в России лишь к 1907 году и перекликающегося с европейским символизмом и модерном.
Сарьяновскую музу в те годы влечет миф о человеке, который вечен, как и мир, в котором он живет. Острая новизна изображения этого реального мира полна таинственности, лирической романтики и чисто восточного сонного ритма, о чем уже говорят названия его работ, выдержанных в эстетике символизма («У моря», «Озеро фей», «Сказка долин. Орфей», «Влюбленный в Змейку» и др.). Символизм, охвативший Запад и русское искусство, был в основном наднациональным, в то время как в сарьяновских работах ощущается явное отклонение в сторону ориентализма.
А. Агасян разворачивает историю европейского и русского символизма и со всей научной скрупулезностью вживается в его обстановку, проявляя историческое знание материала. А оно, как известно, полнее и точнее материала критического, пишущегося по горячим следам. Как настоящий исследователь, А.Агасян умеет жить в «удвоенном времени» — в том, которое он исследует, в неповторимом и невозвратном и в сегодняшнем, с его стремлением объективно реконструировать и переосмысливать прошлое. Каждая деталь, каждый факт, относящийся к исследуемому периоду, учтены им с целесообразной меткостью, все вводится для осмысления образа художника в определенный этап истории и в контексте его художественной жизни. Автор прослеживает влияние этого культурного кода на раннее сарьяновское творчество. Обладая своим научным почерком, Агасян освещает заявленную в заголовке тему, выуживая из круговорота тогдашней художественной критики достаточно убедительные аргументы, подтверждающие начало и конец концепции сарьяновского глубоко пантеистического созерцательного символизма, который никогда не был для художника модой.
Можно сказать, что ни одно исследование творчества Сарьяна не обладает таким обилием попутно привлеченного материала и такой обширной библиографией, что свидетельствует о теоретической эрудиции автора. Причем ни одна из приведенных ссылок не выглядит ненужной или отвлекающей. Все они направлены на то, чтобы вызвать у читателя (любого — и квалифицированного, и не очень) цельный образ времени и определить в нем место раннего Сарьяна. А.Агасян улавливает сарьяновскую интонацию и ведет к ее раскрытию с помощью образного и формального анализа. Автор выделяет сарьяновское творчество этого периода из многообразия родственных ему проявлений, и в первую очередь в русском искусстве, с помощью последовательно-системного подхода, делая акцент на неповторимом индивидуальном характере поэтического мышления Сарьяна. «Сочетание мечты и реальности, конкретного наблюдения и поэтической трансформации… — так А.Агасян определяет одну из работ начала 1900 годов, но слова эти звучат обобщающе для всего этого периода.

Анализируя работы художника второй половины 1900 годов, сравнивая их с произведениями широкого круга современников (П.Кузнецова, П.Уткина, С.Судейкина, Ф.Милиоти и др.), автор вновь подтверждает связь сарьяновского символизма с действительностью, отвергающего любой мистический оттенок. В своем символизме Сарьян ближе к природе, «очеловеченной и одушевленной», но цвет у художника скорее эмоциональный, субъективный, взятый в отрыве от реального освещения. Именно московская школа символизма во главе с В.Брюсовым и К.Бальмонтом объявляла целью искусства эмоциональный опыт художника. Чутко восприимчивый к поэзии, М.Сарьян, сам сочинявший стихи на русском языке, был в этом смысле близок к поэтическому символизму. Но художник никогда не страшился резких поворотов, если они возникали как логический этап эволюции.
Впервые посетив Армению, Сарьян был поражен цветовой гаммой и пластической мощью родины. Он резко меняет палитру, в которой уже просматривается его творческая индивидуальность, проникнутая спецификой национального характера и духа. Его живопись постепенно вызревает, готовясь к большой форме. Знакомство с новой французской живописью начиная с 1906 года стимулировало его поиски, а находки лишь подтверждались творчеством таких художников, как Матисс, Ван Гог, Гоген, Сезанн. А.Агасян подчеркивает обостренное внимание к этим именам и их искусству в России благодаря щукинской коллекции, которая вдохновляла художников, порождала поклонников, знакомила с проблемами европейской живописи. Но окрыленность Сарьяна носила иной характер: он искал внутреннюю причину этих новаций, их скрытый нерв и родственность своим поискам.
А. Агасян помогает читателю уловить общность в творческих устремлениях Сарьяна и родоначальников французского постимпрессионизма. Внедренные корнями в совершенно противоположные традиции, обладающие совсем разными темпераментами и индивидуальными особенностями, они так же исступленно любят природу Юга, отождествляемого ими с солнцем, «источником всего живого, средоточием жизни». Агасян подчеркивает, что в творчестве великих художников восприятие природы и человека совпадает по своей сути. Для подтверждения этого вывода он сводит вместе «Портрет старика крестьянина» и «Сеятеля» Ван-Гога и «Автопортрет», «Пахаря» Сарьяна. Это говорит о том, что познание тайны природы и человека исключено из сиюминутной истории. Оно, это познание, стремится к тем граням смысла, которые уже далеки от символических функций.
А. Агасян останавливается на пороге того периода, когда происходит окончательный поворот к здравому реализму, когда в работах Сарьяна появляются произведения жанрового характера, обнаруживающие связь с реальностью. Ведь именно армянские горы стали тем потрясшим его переживанием, давшим ему духовную и творческую силу, которая и породила новое качество его живописи. Но это уже совершенно новая страница творчества, начатая с 1909 года, когда даже названия работ («Гиены», «Зной. Бегущая собака», «Утро в Ставрине» и др.) говорят о разрыве с идеями символизма.