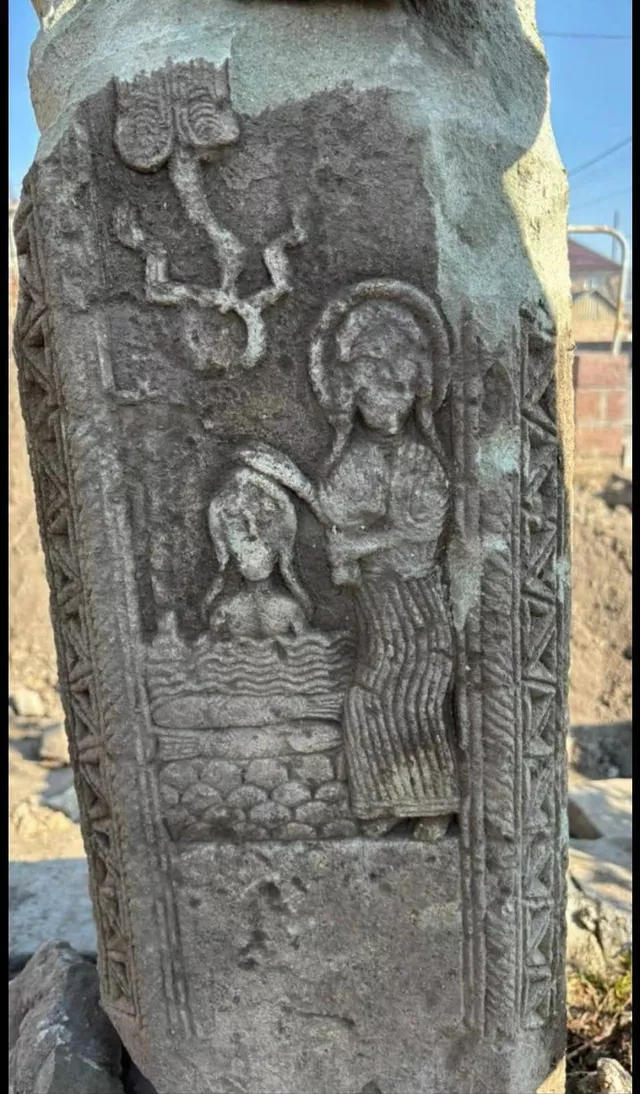Последние аплодисменты, последняя овация — она всколыхнула Оперную площадь, перелилась на улицу Туманяна, загремела бурным крещендо на проспекте, народ все прибывал, к траурному шествию все присоединялись и присоединялись люди, аплодисменты не смолкали, а звучали все громче, достигая небес, к которым вознеслась душа Артиста, Кумира, Настоящего Интеллигента — Соса Арташесовича САРКИСЯНА.
«Отпустите меня — я уйду» — сагияновский рефрен и неповторимый голос Соса Саркисяна накрыли сердце города. Он ушел. Ушел патриарх, могиканин, последний герой — эти слова не раз звучали в траурных речах. Ушел представитель эпохи, в которой большими были не только деревья, но и артисты. Эпохи, в которой актер в Армении был больше чем актер.
ОНИ ПРИШЛИ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. СУНДУКЯНА ПЛЕЯДНО, чтобы продлить его золотой век — Хорен Абрамян, Мгер Мкртчян, Метаксия Симонян, Сос Саркисян… Король Джон, Яго, знаменитый «Ацаван» — доминионы его театральной державы. Кинематограф принес ему всенародную любовь и славу, перекинувшуюся далеко за пределы страны. «Всегда, в любой роли он играл судьбу армянина, понимая, что иные краски, иные одежды ему чужды», — сказал о Сосе Саркисяне один из коллег. Десятки киноролей. В последней своей значительной киноработе он играл Феофана Протоповича в ленте «Михайло Ломоносов» — в России тоже не забыли народного артиста СССР. Как обжигал его взгляд! Он был проникновенен и величественен, грозен и мудр, этот епископ, этот духовный пастырь. А за ним стояли «Мы и наши горы», «Яблоневый сад», «Дзори Миро», «Наапет»… Роли, ставшие не просто триумфом, но судьбой. Или он сам выбрал такую судьбу — в смутную эпоху крушения нравственных основ стать пастырем, проповедующим имманентные и фундаментальные ценности бытия.
В наше размазанное по денежной купюре время, когда стало нормой фабриковать искусство без смысла, работать без желания и результата, а только ради денег, заниматься политикой не ради страны, а ради себя, Сос Саркисян не боялся быть консервативным, несовременным и непродвинутым. И оказался мудрее и «правее» всех теоретиков небытия — интеллектуальных спекулянтов, деконструкторов, популяризаторов новой европейской философии. Он оказался умнее методологов, пиарщиков, политологов, манипуляторов общественным сознанием, борцов, позиционеров и оппозиционеров. Те, кто поживет еще лет сто, убедятся в этом сами.
ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ СУТЬ НАШИХ ИЗНАЧАЛЬНЫХ КОНВЕНЦИЙ С МИРОМ, и нарушение этих изначальных конвенций ни к чему хорошему не ведет — это ощущение у Соса Арташесовича было глубинное, корневое, чувство артиста и труженика. «Придумали — демократия! Как сто дураков могут выбрать одного умного?! У всего должен быть хозяин — у земли, у дерева, у театра, у страны», — говорил он. И здравый смысл у него был не приобретенный, а самый что ни на есть врожденный. Он всей душой протестовал против интеллектуальных спекулянтов, посягавших на здоровые основы бытия — на право родителей передавать детям веками сложившиеся традиции, на право людей не быть гомосексуалистами и не желать своей родине поражения в войне. Эти простые ценности никак нельзя обосновать, они постулируются, но не доказуются. Вроде бытия Божия. «Все строится на песке, но строй так, как если бы ты строил на камне» — он жил с таким убеждением и призывал жить других.
«Наше общество пока не состоялось. Мы пока не успели или не то делаем. Наше общество не организовано, не знает, чего хочет. Мы так и не договорились, как будем общаться друг с другом. Будем обманывать, водить за нос или будем честными друг с другом, будем друг другу верить? Будем любить нашу родину или любить не будем? Пока от ответов на эти вопросы мы очень далеки и любим только деньги. Хотя когда мне случается попасть в такую среду, где много молодежи… Смотришь — десять, двадцать, сорок человек общаются, спорят, радуются, танцуют — сразу меняется настроение. Думаю, нет, Сос, чего-то ты недопонял. Мы еще вернемся ко всему настоящему» — убеждал себя он.
Эта вера в молодое, незнакомое племя была его путеводной звездой. На посту ректора теперь уже Государственного института театра и кино он сделал столько, сколько одному человеку, кажется, не под силу — новое здание, капитальный ремонт, открытие новых факультетов. Он «злоупотреблял» своим званием народного артиста и абсолютным авторитетом, которым пользовался среди властей предержащих, чтобы употребить их на пользу тем, «кто придет после нас». И созданный им театр «Амазгаин», в 90-х собравший вокруг себя корифеев, ищущих приют от театрального и жизненного безвременья, переродился понемногу в труппу с самой крепкой молодой косточкой. Ведь Сос Арташесович пресекал на сцене всякие фокусы. «Какие новые формы? Разве театр — это не глаза человека, не страдания его, не его размышления? Че-ло-век! Шекспир писал — «Гамлет», «Макбет» «Отелло» — об одном человеке, его жизни! Остальное — пустое. Люди ходят в театр, чтобы увидеть себя, а не какие-то там отвлеченные идеи. Зритель ищет героя, ищет себе подобного, ищет человека, который ему что-то подскажет» — был убежден он и требовал от актеров правды жизни.
Они называли его Дедом, и это была не фамильярность, а пиетет перед главой семьи. Как он болел за них! Как пропагандировал, как требовал внимания к молодым — поощрения, призов, газетных статей! Как, уже и изверившись, продолжал добиваться здания для театра, не имеющего собственной крыши. «Мне уже столько лет обещают выделить место под строительство, и все оказывается пшиком. Пусть только дадут территорию — мы сами построим! Я не посмотрю ни на свой возраст, ни на состояние здоровья — поеду по всему миру, везде, где только есть сильная армянская диаспора, буду просить, надоедать, клянчить! У театра должен быть свой дом!». Как он радовался, когда место, наконец, выделили и даже утвердили проект!
НА ПОСЛЕДНЕЙ, СОСТОЯВШЕЙСЯ ПРОШЛОЙ ГЛУБОКОЙ ОСЕНЬЮ амазгаиновской премьере — чеховском «Дяде Ване» — Сос Саркисян не присутствовал. Он пришел весной, когда потеплело — увидеть своими глазами, что сделал его театр, театр, чьим хозяином себя чувствовал. Зал стоя встретил его овацией. Его бережно усадили в кресло, укутали пледом — еще было свежо. И, несмотря на трепетное внимание, которым окружили артиста, эта фигура в кресле, это отточенной лепки породистое лицо над клетчатым пледом напомнило о… Фирсе. Не заброшенностью — принадлежностью к другому времени, к цветущему вишневому саду, готовому пасть под лихим ударом топора…
«Отпустите меня — я уйду»… Он ушел, человек из времени, когда деревья и артисты были большими. Человек, от своего времени не отрекшийся и стремящийся любое время сделать своим. Но оно неумолимо в своей изменчивости. И уже в который раз приходится убеждаться, что тех всенародных прощаний с Героем, Артистом, гордостью и славой нашей, когда город объединялся в одну скорбящую площадь, уже никогда не будет. Мы стали такими прагматичными, мы спешим — любим, преклоняемся и прощаемся на бегу, и гроб с телом кумира несут уже не вставшие в почетную очередь коллеги, а одинаковые мальчики из соответствующего сервиса. И по театральному миру уже идут разговоры: «Ну все — «Амазгаину» недолго осталось. Соса нет, здания им теперь никто не построит, со сцены института выставят — давно мечтали».
И все-таки хочется верить, что Сос Арташесович был прав, что есть вещи, которые суть наших изначальных конвенций с миром, и нарушение этих изначальных конвенций ни к чему хорошему не ведет, и что они возобладают над прагматизмом и цинизмом нашего времени. Что в Ереване будет построен театр, который будет носить имя армянина, артиста, интеллигента, всю жизнь остававшегося верным истинному искусству и истинным ценностям бытия. Имя Соса Саркисяна.
ОНИ ПРИШЛИ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. СУНДУКЯНА ПЛЕЯДНО, чтобы продлить его золотой век — Хорен Абрамян, Мгер Мкртчян, Метаксия Симонян, Сос Саркисян… Король Джон, Яго, знаменитый «Ацаван» — доминионы его театральной державы. Кинематограф принес ему всенародную любовь и славу, перекинувшуюся далеко за пределы страны. «Всегда, в любой роли он играл судьбу армянина, понимая, что иные краски, иные одежды ему чужды», — сказал о Сосе Саркисяне один из коллег. Десятки киноролей. В последней своей значительной киноработе он играл Феофана Протоповича в ленте «Михайло Ломоносов» — в России тоже не забыли народного артиста СССР. Как обжигал его взгляд! Он был проникновенен и величественен, грозен и мудр, этот епископ, этот духовный пастырь. А за ним стояли «Мы и наши горы», «Яблоневый сад», «Дзори Миро», «Наапет»… Роли, ставшие не просто триумфом, но судьбой. Или он сам выбрал такую судьбу — в смутную эпоху крушения нравственных основ стать пастырем, проповедующим имманентные и фундаментальные ценности бытия.
В наше размазанное по денежной купюре время, когда стало нормой фабриковать искусство без смысла, работать без желания и результата, а только ради денег, заниматься политикой не ради страны, а ради себя, Сос Саркисян не боялся быть консервативным, несовременным и непродвинутым. И оказался мудрее и «правее» всех теоретиков небытия — интеллектуальных спекулянтов, деконструкторов, популяризаторов новой европейской философии. Он оказался умнее методологов, пиарщиков, политологов, манипуляторов общественным сознанием, борцов, позиционеров и оппозиционеров. Те, кто поживет еще лет сто, убедятся в этом сами.
ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ СУТЬ НАШИХ ИЗНАЧАЛЬНЫХ КОНВЕНЦИЙ С МИРОМ, и нарушение этих изначальных конвенций ни к чему хорошему не ведет — это ощущение у Соса Арташесовича было глубинное, корневое, чувство артиста и труженика. «Придумали — демократия! Как сто дураков могут выбрать одного умного?! У всего должен быть хозяин — у земли, у дерева, у театра, у страны», — говорил он. И здравый смысл у него был не приобретенный, а самый что ни на есть врожденный. Он всей душой протестовал против интеллектуальных спекулянтов, посягавших на здоровые основы бытия — на право родителей передавать детям веками сложившиеся традиции, на право людей не быть гомосексуалистами и не желать своей родине поражения в войне. Эти простые ценности никак нельзя обосновать, они постулируются, но не доказуются. Вроде бытия Божия. «Все строится на песке, но строй так, как если бы ты строил на камне» — он жил с таким убеждением и призывал жить других.
«Наше общество пока не состоялось. Мы пока не успели или не то делаем. Наше общество не организовано, не знает, чего хочет. Мы так и не договорились, как будем общаться друг с другом. Будем обманывать, водить за нос или будем честными друг с другом, будем друг другу верить? Будем любить нашу родину или любить не будем? Пока от ответов на эти вопросы мы очень далеки и любим только деньги. Хотя когда мне случается попасть в такую среду, где много молодежи… Смотришь — десять, двадцать, сорок человек общаются, спорят, радуются, танцуют — сразу меняется настроение. Думаю, нет, Сос, чего-то ты недопонял. Мы еще вернемся ко всему настоящему» — убеждал себя он.
Эта вера в молодое, незнакомое племя была его путеводной звездой. На посту ректора теперь уже Государственного института театра и кино он сделал столько, сколько одному человеку, кажется, не под силу — новое здание, капитальный ремонт, открытие новых факультетов. Он «злоупотреблял» своим званием народного артиста и абсолютным авторитетом, которым пользовался среди властей предержащих, чтобы употребить их на пользу тем, «кто придет после нас». И созданный им театр «Амазгаин», в 90-х собравший вокруг себя корифеев, ищущих приют от театрального и жизненного безвременья, переродился понемногу в труппу с самой крепкой молодой косточкой. Ведь Сос Арташесович пресекал на сцене всякие фокусы. «Какие новые формы? Разве театр — это не глаза человека, не страдания его, не его размышления? Че-ло-век! Шекспир писал — «Гамлет», «Макбет» «Отелло» — об одном человеке, его жизни! Остальное — пустое. Люди ходят в театр, чтобы увидеть себя, а не какие-то там отвлеченные идеи. Зритель ищет героя, ищет себе подобного, ищет человека, который ему что-то подскажет» — был убежден он и требовал от актеров правды жизни.
Они называли его Дедом, и это была не фамильярность, а пиетет перед главой семьи. Как он болел за них! Как пропагандировал, как требовал внимания к молодым — поощрения, призов, газетных статей! Как, уже и изверившись, продолжал добиваться здания для театра, не имеющего собственной крыши. «Мне уже столько лет обещают выделить место под строительство, и все оказывается пшиком. Пусть только дадут территорию — мы сами построим! Я не посмотрю ни на свой возраст, ни на состояние здоровья — поеду по всему миру, везде, где только есть сильная армянская диаспора, буду просить, надоедать, клянчить! У театра должен быть свой дом!». Как он радовался, когда место, наконец, выделили и даже утвердили проект!
НА ПОСЛЕДНЕЙ, СОСТОЯВШЕЙСЯ ПРОШЛОЙ ГЛУБОКОЙ ОСЕНЬЮ амазгаиновской премьере — чеховском «Дяде Ване» — Сос Саркисян не присутствовал. Он пришел весной, когда потеплело — увидеть своими глазами, что сделал его театр, театр, чьим хозяином себя чувствовал. Зал стоя встретил его овацией. Его бережно усадили в кресло, укутали пледом — еще было свежо. И, несмотря на трепетное внимание, которым окружили артиста, эта фигура в кресле, это отточенной лепки породистое лицо над клетчатым пледом напомнило о… Фирсе. Не заброшенностью — принадлежностью к другому времени, к цветущему вишневому саду, готовому пасть под лихим ударом топора…
«Отпустите меня — я уйду»… Он ушел, человек из времени, когда деревья и артисты были большими. Человек, от своего времени не отрекшийся и стремящийся любое время сделать своим. Но оно неумолимо в своей изменчивости. И уже в который раз приходится убеждаться, что тех всенародных прощаний с Героем, Артистом, гордостью и славой нашей, когда город объединялся в одну скорбящую площадь, уже никогда не будет. Мы стали такими прагматичными, мы спешим — любим, преклоняемся и прощаемся на бегу, и гроб с телом кумира несут уже не вставшие в почетную очередь коллеги, а одинаковые мальчики из соответствующего сервиса. И по театральному миру уже идут разговоры: «Ну все — «Амазгаину» недолго осталось. Соса нет, здания им теперь никто не построит, со сцены института выставят — давно мечтали».
И все-таки хочется верить, что Сос Арташесович был прав, что есть вещи, которые суть наших изначальных конвенций с миром, и нарушение этих изначальных конвенций ни к чему хорошему не ведет, и что они возобладают над прагматизмом и цинизмом нашего времени. Что в Ереване будет построен театр, который будет носить имя армянина, артиста, интеллигента, всю жизнь остававшегося верным истинному искусству и истинным ценностям бытия. Имя Соса Саркисяна.