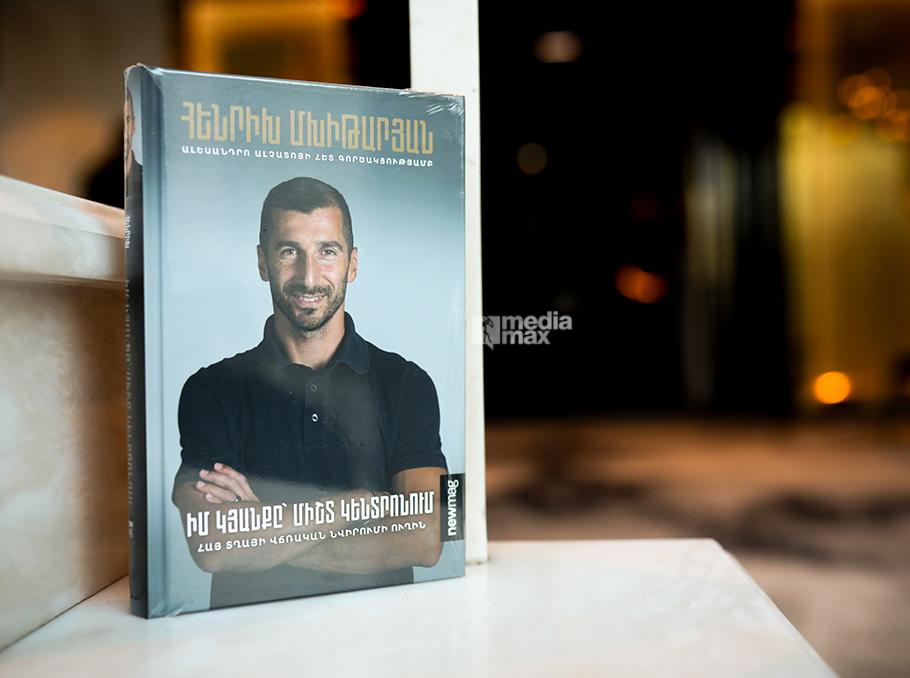Некоторые проблемы института банкротства в Армении
Мировая законодательная практика уже наработала основные процедуры банкротства (несостоятельности), которые в разных странах в основном отличаются друг от друга подходами к долгам — мораторию либо и вовсе освобождению от них, погашению и очередности удовлетворения требований кредиторов. Как правило, этот закон определяет экономическую политику государства, и он значим, когда адекватно реагирует на реалии и, соответственно, претерпевает изменения, особенно в условиях экономического кризиса.
Вперед к… 2000 году?
Сегодня в Армении на подходе уже 5-й по счету закон о банкротстве, который был принят еще в 2007 году, но стал более или менее работоспособным лишь с принятием в конце прошлого года изменений, которые хотя бы частично компенсировали до сих пор не принятые правительством необходимые подзаконные акты. Заметим, что все предыдущие законы о банкротстве были написаны разными группами авторов, которые принадлежали к разным направлениям и школам, часто имели противоположные концепции и, соответственно, исповедовали различные взгляды на ту или иную проблему банкротства. Кроме того, принимаемые законы широко не обсуждались с самой заинтересованной стороной — судьями и управляющими.
ТОЛЬКО НАЧИНАЯ С 3-го ПО СЧЕТУ ЗАКОНА (2000г.) ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗНАЮЩЕГО СВОЕ ДЕЛО тогдашнего замминистра юстиции Тиграна Мукучяна в Армении целеустремленно стали формировать институт банкротства, соответствующий международным стандартам и, в частности, образцовый на территории СНГ. Было организовано обучение в 3 потоках управляющих по неплатежеспособности, которые далее были лицензированы (сегодня это требование к управляющим снято, а вместо лицензий они должны быть аттестованы, квалифицированы уполномоченным госорганом, который, правда, так до сих пор и не создан), созданы три общественные организации антикризисных управляющих, которые вместе с судьями стали активно участвовать в дискуссиях относительно законодательства о банкротстве.
Принятие 3-го по счету Закона РА "О неплатежеспособности (банкротстве)" совпало с основанием в республике Хозяйственного (Экономического) суда РА, в составе которого имелось 6 специализированных судей по делам банкротств. Однако далее в связи с очередной судебной реформой, когда были организованы региональные гражданские суды (столичный в г.Ереване, южный в г.Ехегнадзоре и северный в г.Дилижане) и куда были распределены те самые судьи по делам банкротств, Хозяйственный суд был ликвидирован, а впоследствии при новом витке реформы канули в Лету и региональные суды. А с реформами "выплеснули" основу и детище института банкротства — судей по делам о несостоятельности.
Сегодня остается только сожалеть, что при основании Хозяйственного суда РА его председателем был назначен Ованес Манукян (ныне посол Армении в Грузии. — Ред.), который сумел пролоббировать и провести в НС РА свой, "прокредиторско-судебный" вариант закона. Заметим здесь, что зарубежные эксперты условно дифференцируют законодательство о банкротстве по пяти категориям — от радикально "продолжниковского" до радикально "прокредиторского" — и критерием подобной классификации выступает направленность, уклон закона в сторону защиты интересов, соответственно, кредиторов либо должников. Отрадно и вместе с тем парадоксально, что все последующие законы о банкротстве и изменения к ним только приближают нас к… мукучяновскому варианту закона образца 2000 года.
НАМ ТАКЖЕ ДОПОДЛИННО ИЗВЕСТНО, ЧТО НЫНЕШНИЙ ВАРЧАПЕТ ТИГРАН САРКИСЯН, будучи главой Центробанка РА, со своим тогдашним заместителем, а ныне председателем ЦБ РА Артуром Джавадяном являются большими знатоками теории и практики законодательства о банкротстве банков, кредитных, инвестиционных, страховых и иных финансовых организаций. Это во многом благодаря их усилиям мы сегодня, хотя бы с третьей попытки, имеем весьма эффективный и соответствующий международным стандартам Закон РА "О банкротстве банков, кредитных и прочих финансовых организаций", а как следствие такой политики — выведение с экономического поля порядка полусотни "карманных", по большей части полукриминальных банков и кредитных организаций.
На этом фоне тем более странно, что премьер не контролирует своевременное принятие правительством предусмотренных законом подзаконных актов (вновь упомянем требование о создании уполномоченного госоргана по делам о банкротствах), что тормозит полноценное применение самого закона. Как бы то ни было, остановимся на некоторых концептуальных изменениях в законодательстве о банкротстве в РА, основная часть которых была принята в конце прошлого года, а самое последнее по времени — в марте с.г.
Обанкротиться вдвойне "труднее"
Вдвое увеличены порог и срок задолженности, после которых хозяйствующий субъект либо физлицо может быть подвергнут процедуре банкротства. Если раньше для этого достаточно было иметь долг в размере 500 тыс. драмов и не выполнять свои обязательства по его погашению в течение 30 дней, то сейчас эти, скажем так, индикаторы увеличены, соответственно, до 1 млн драмов и 60 дней (статья 3 закона — "Признаки банкротства").
Хорошо это или плохо, вопрос спорный. Как антикризисная мера для юрлиц это изменение носит позитивный характер, однако при банкротстве граждан, в особенности добровольном, этого уже не скажешь. И вот почему.
ОБЩЕИЗВЕСТНО, ЧТО ГРАЖДАНЕ КАК СУБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО (ЧАСТНОГО) ПРАВА представляют собой наиболее уязвимую часть общества и они должны иметь возможность принятия решения о своем добровольном банкротстве уже при появлении первых признаков несостоятельности. Принятый же "под одну гребенку" порог в 1 млн драмов, согласитесь, слишком высокая планка при добровольном банкротстве граждан. Вообще вопрос банкротства физлиц требует совершенствования на основе глубокого анализа фактической статистики рассмотренных дел о банкротстве (более чем уверены, что такой статистики до сих пор не существует). Хорошо бы при этом выделить его в отдельный закон, а не рассматривать банкротство физлиц как особенность в общем законе. Тем более что и индивидуальные крестьянские хозяйства, и небольшие фермы проходят по категории банкротства физлиц, а эта основа сельского хозяйства занимает сегодня особое место в антикризисных мерах правительства. Добавим также, что на практике все вопросы так или иначе находят свое решение, однако качество этих решений зависит от квалификации и опыта судьи и управляющего: они, как правило, субъективные и в принципе содержат высокий коррупционный риск.
Существенные изменения произведены в пункте 3 статьи 10 закона — "Предъявление заявления и взятие заявления обратно". Ранее забрать заявление можно было "до принятия судом иска к рассмотрению", а суд, согласно статье 13, обязан принять иск к рассмотрению в день предъявления иска, то есть взятие заявления обратно практически не имело временного (ударение на предпоследнем слоге. — Ред.) значения (лага). Кроме того, на практике это приводило к недоразумениям по части выплаты госпошлины (для юрлиц — 500 тыс. драмов, для граждан — 100 тыс. драмов), а также в вопросе прекращения дела о банкротстве.
Принятыми изменениями сторонам дается возможность подумать еще, оплатить долг либо согласовать мировое соглашение и т.д., поскольку сейчас заявление можно взять обратно "до входа судьи в совещательную комнату для принятия решения о признании должника банкротом", то есть у должника и кредиторов образуется запас времени порядка 45 дней. Добавим также, что при возвращении заявления суд принимает решение о прекращении дела о банкротстве (правда, опять же при этом не решен вопрос возврата-невозврата госпошлины).
Статьей 18 закона вводится концептуальная новация, новая процедура — "мировое соглашение сторон" (яркий пример мукучяновского варианта 3-го законопроекта). Отметим, что до внесения этого изменения закон категорически запрещал заключение мирового соглашения, что было примером антисудебного и нелогичного положения.
Уточнение статьи 20 — "Кассация (обжалование) судебных актов, принятых при рассмотрении дел о банкротстве" — предоставляет право в 15-дневный срок обжаловать все без исключения определения и решения судебных актов. До того некоторые решения и определения носили окончательный характер и обжалованию не подлежали, что, конечно же, было по крайней мере несправедливо, неся на себе отпечаток "просудебности"…
"ГА" продолжит тему в ближайших номерах.
Степан АБРАМЯН, председатель Гильдии антикризисных управляющих и независимых экспертов,
Ашот АРАМЯН