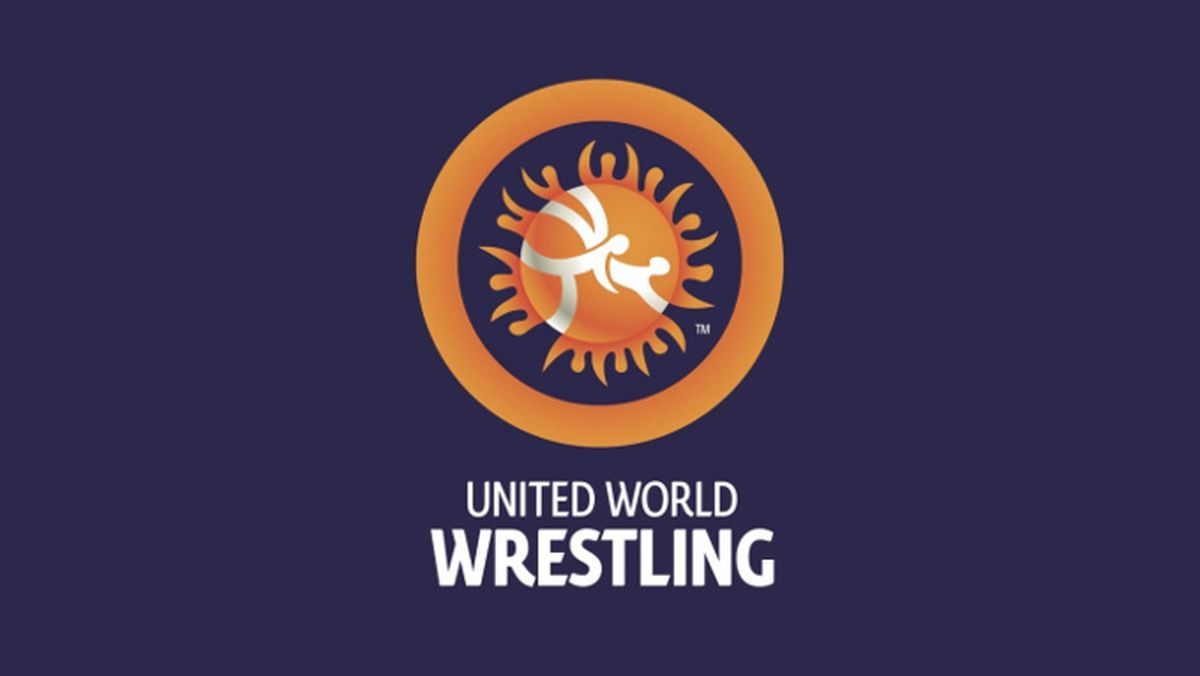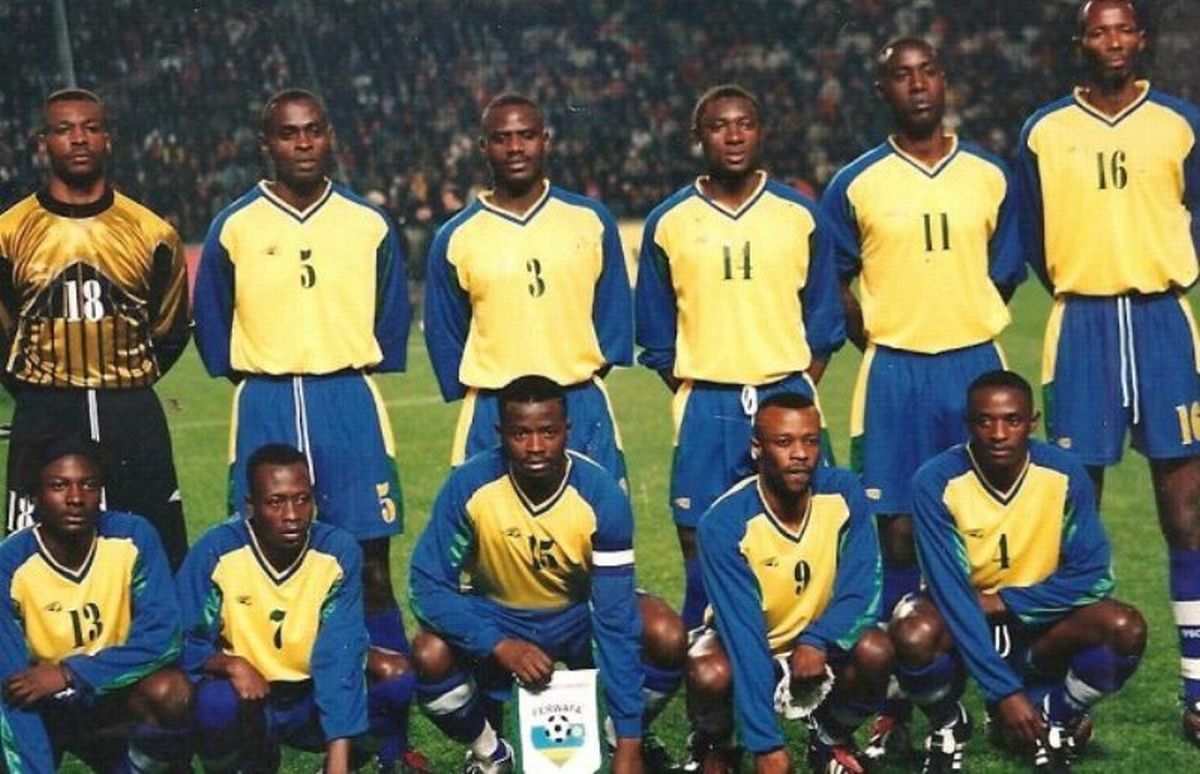Юбилейный Х Московский международный театральный фестиваль им. А.П.Чехова вобрал в свою программу такое количество режиссеров, с именами которых принято употреблять определение "великий", что остается завидовать белой, черной и всеми остальными видами зависти организаторам фестиваля, находящим такую поддержку властей страны и Москвы, которая только и может делать возможным такой культ театральных личностей.
ДАЛЬШЕ – "ПОЛЕТ" В КИШИНЕВ
Прежде чем перейти собственно к фестивалю, остановимся на событии, к которому мы, Армения, имеем прямое касательство. В период Чеховского в Москве проходило очередное ежегодное совещание руководителей союзов театральных деятелей стран СНГ, Грузии и Балтии, объединенных в конфедерацию под руководством директора Чеховского фестиваля Валерия Шадрина.
 В ФОКУСЕ СОВЕЩАНИЯ, НА КОТОРОМ ПРИСУТСТВОВАЛ ДИРЕКТОР Фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ Армен Смбатян, находилась трехгодичная программа поддержки молодых деятелей театра, включающая режиссеров, сценографов, драматургов и театроведов. Уже завершен первый этап программы, в ходе которого жюри, состоящее из авторитетных московских режиссеров и критиков, отсматривало работы молодых на территории всего бывшего Союза с тем, чтобы выбрать лучшие для показа на фестивале, который пройдет в Кишиневе. В начале встречи Валерий Шадрин выразил особую благодарность Молдове, взявшейся принять у себя молодежный фестиваль, а также Армении за то, что она, с одной стороны, всегда первая поддерживает идеи конфедерации, а с другой — создает минимум проблем, поскольку очевидно, что молодые деятели театра работают многообразно, продуктивно и перспективно.
В ФОКУСЕ СОВЕЩАНИЯ, НА КОТОРОМ ПРИСУТСТВОВАЛ ДИРЕКТОР Фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ Армен Смбатян, находилась трехгодичная программа поддержки молодых деятелей театра, включающая режиссеров, сценографов, драматургов и театроведов. Уже завершен первый этап программы, в ходе которого жюри, состоящее из авторитетных московских режиссеров и критиков, отсматривало работы молодых на территории всего бывшего Союза с тем, чтобы выбрать лучшие для показа на фестивале, который пройдет в Кишиневе. В начале встречи Валерий Шадрин выразил особую благодарность Молдове, взявшейся принять у себя молодежный фестиваль, а также Армении за то, что она, с одной стороны, всегда первая поддерживает идеи конфедерации, а с другой — создает минимум проблем, поскольку очевидно, что молодые деятели театра работают многообразно, продуктивно и перспективно.
Спектаклем, на долю которого выпало представлять Армению в Кишиневе, стал "Полет над городом" в постановке Нарине Григорян. В ходе пребывания московского жюри в Ереване нам выпал еще один неожиданный бонус – режиссер-педагог школы-студии МХАТ, впечатленный спектаклем Заруи Антонян "Сказка, упавшая с облака", пригласил его создателя на двухгодичное обучение в магистратуре к себе в "Щуку".
Что касается Кишинева, то к "Полету" Нарине присоединятся трое молодых сценографов для участия в выставке, которая будет проходить в рамках фестиваля, а также театроведы, впечатления которых от увиденных спектаклей выйдут отдельным сборником.
Финансирование фестиваля берет на себя частично молдавская сторона, а в основном ФГС. "Я уверен, что все наши контакты – это не искусственная попытка имитировать сотрудничество, но искреннее стремление сохранить давно существующие связи, которые приводят к взаимному культурному обогащению. И наш фонд всеми силами готов поддерживать эти связи", — сказал Армен Смбатян. Остается выразить надежду, что подобную готовность проявит и наше Министерство культуры, – проблему дорожных расходов участникам фестиваля предстоит решать на местах.
БАЛЕТНЫЕ ИЗЫСКИ – ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ…МИКРОБОВ
Афиша нынешнего Чеховского фестиваля в ее международной части пестрела, впрочем, как всегда, культовыми именами — Деклан Доннеллан, Филипп Жанти, Роббер Лепаж, Начо Дуато и еще с десяток имен, при упоминании которых полагается встать и снять шляпу. В репертуаре фестиваля был даже уникальный подарок-ретроспекция – "Арлекин – слуга двух господ" легендарного Piccolo Teatro Di Milano в постановке великого Стреллера, которую демиург мирового театра осуществил аж в 1947 году. Тем не менее недовольные голоса и обвинения фестиваля в окончательном уходе в сторону коммерции, особенно в среде профессионалов, раздаются все громче и громче. Как понять и чем объяснить?
 ЧТОБЫ НАЧАТЬ ПОНИМАТЬ, ДОСТАТОЧНО ПРОЛИСТНУТЬ СОВЕРШЕННО РОСКОШНО ИЗДАННЫЙ БУКЛЕТ ФЕСТИВАЛЯ, в том числе его московскую программу. Российские мэтры представлены не менее широко и не менее величественно – Фоменко, Фокин, Захаров, Крымов, Серебрянников, Карбаускас, Гинкас, Туминас… Словом, ответ на вопрос "кто это сделал?" в российской части по авторитетности ничем не уступал западному. А вот с ответом на вопрос "что сделано?", сиречь поставлено, возникала явная полярность. В фокусе внимания московской режиссуры первого эшелона — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Чехов, Бунин, Генрик Ибсен и Томас Манн. Бескрайняя смелость режиссерских трактовок и воображения, потрясающие постановочные эффекты. Но и трепетное отношение к литературному материалу, тончайшие психологические разработки, блистательные актерские работы.
ЧТОБЫ НАЧАТЬ ПОНИМАТЬ, ДОСТАТОЧНО ПРОЛИСТНУТЬ СОВЕРШЕННО РОСКОШНО ИЗДАННЫЙ БУКЛЕТ ФЕСТИВАЛЯ, в том числе его московскую программу. Российские мэтры представлены не менее широко и не менее величественно – Фоменко, Фокин, Захаров, Крымов, Серебрянников, Карбаускас, Гинкас, Туминас… Словом, ответ на вопрос "кто это сделал?" в российской части по авторитетности ничем не уступал западному. А вот с ответом на вопрос "что сделано?", сиречь поставлено, возникала явная полярность. В фокусе внимания московской режиссуры первого эшелона — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Чехов, Бунин, Генрик Ибсен и Томас Манн. Бескрайняя смелость режиссерских трактовок и воображения, потрясающие постановочные эффекты. Но и трепетное отношение к литературному материалу, тончайшие психологические разработки, блистательные актерские работы.
Что касается программы международной, фразу "приготовьтесь удивляться", приписанную к спектаклю "Ботаника" балетной труппы из Коннектикута MOMIX, можно с полным основанием вынести в эпиграф ко всему присутствующему на фестивале импорту. Начнем с того, что единственным драматическим спектаклем из "мировой серии" оказалась "Буря" по Шекспиру в постановке Деклана Доннеллана. Да и то, кажется, потому, что, несмотря на ко-продуктивность постановки (Россия – Великобритания – Франция), актеры в спектакле заняты российские. В остальном же фестиваль имени великого русского писателя и драматурга — инженера душ Антона Павловича Чехова оказался праздником хореографии и акробатики на фоне декораций с неслыханными сметами.
Едва ли не самой котируемой в программе – десять показов — оказалась "Золушка" Сергея Прокофьева британской труппы NEW ADVENTURES в постановке Метью Боурнза. Боурнз – не только кавалер ордена Британской империи, но и икона современной режиссуры и хореографии, на перечисление всех наград и регалий которого не хватило бы газетной полосы. Считается, что Боурнз создает популярное искусство высокого класса. Куда уж популярнее. "Золушка" — это балетный "Титаник", действия которого происходят в Лондоне в период Второй мировой войны. Такой вот "концепт" — война и любовь. "Живой" поезд, уносящий на фронт солдат. Самый что ни на есть натуральный белый "Кадиллак" с откидным верхом, уносящий Золушку на бал. А бал! А бал – лондонское "Кафе де Пари", мраморные лестницы, позолота, все движется блестит и переливается. Звук взрыва, секунда, длящаяся не дольше, чем щелчок по клавише киномонтажера, – и вот уже серая панорама Лондона, взрывающиеся мосты, падающие с колосников осколки, пронзающие темноту лучи прожекторов! Но ведь "Золушка" — балет! И, кстати, из прокофьевской партитуры не выкинуто ни одной ноты. Если вы имеете в виду то, что в балете полагается танцевать… Танцевали, конечно, хотя, по-моему, не очень. А впрочем, не до танцев было, настолько было на что посмотреть.
"БОТАНИКА" АМЕРИКАНСКОЙ ТРУППЫ MOMIX В ПОСТАНОВКЕ МОЗЕСА ПЕНДЛТОНА, та самая "приготовьтесь удивляться", тоже балет, но современный. Ткани, цвета, костюмы, проекции и реквизит создают пейзаж, населенный своеобразными и неповторимыми созданиями. Растения, животные и минералы – все в образе человека – соединяются и трансформируются, рождая местами красоту немыслимую. Трепетные цветы размером с пятиэтажное здание и скелеты – динозавров-бронтозавров в натуральную величину. Был там и трогательный танец маленьких микробов. На фоне огромного черного занавеса, изображающего, видимо, гигантскую пробирку, складывалась в причудливые узоры очаровательная зараза. Микробы были чудо как хороши – зелененькие с синим крапом, в которые были выкрашены ноги и руки танцоров. Уж как они этого добивались – кто их знает? Некоторые зрители считали, что эта штука посильнее маленьких лебедей Чайковского. Не разделяя такой точки зрения, признаться, ушла после первого акта, пожалев, что не пошла на спектакль московский.
Довелось посмотреть еще одно произведение культового персонажа — "Смолу и перья" Матюрена Болза и его парижской компании "Руки, ноги и голова тоже". Руки ноги и голова тоже у актеров-акробатов двигаются так, что дух захватывает. Драматургия спектакля держится на декорации – на немыслимой конструкции и ее безграничных возможностях, а также возможностях исполнителей, двигающихся по потолку, как по полу. Герои вроде как задаются вопросами о смысле жизни, в то время как мир все более тяготеет к вакууму потери ценностей. Насколько искания персонажей заполняют сей вакуум, об этом говорить преждевременно.
Будь ты поклонником русского театра с его душой, мыслями и страданиями, или западных проектов с их безграничной готовностью удивлять, приходиться признать, что спектакли Чеховского фестиваля объединяет одно: высший класс. Приятно иметь возможность сказать: я Лепажа видел, и он мне не понравился. У нас такой возможности нет, и при нынешних тенденциях развития и отношения к театральному делу, видимо, еще очень долго не появятся. А жаль. Появляйся в Ереване хоть три-четыре таких спектакля в год, может, людей, задающихся вопросом "а кому он вообще нужен, этот театр?", стало бы значительно меньше.