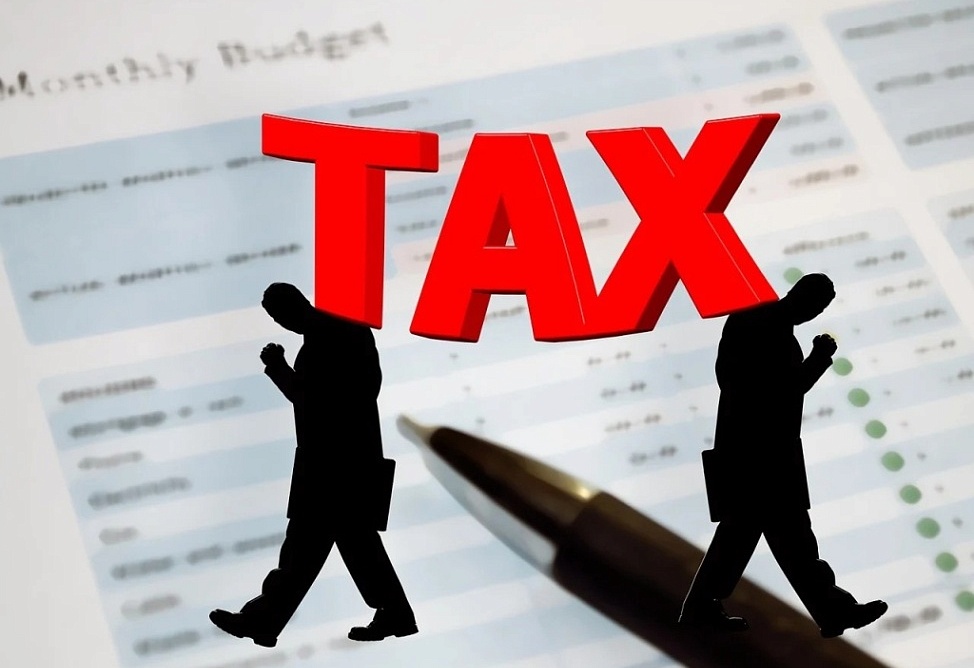— Г-н Харатян, вы входите в число 100 самых продуктивных ученых Армении, какими исследованиями вы занимаетесь?
— Лаборатория кинетики процессов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) Института химической физики НАН РА, которой я руковожу, занимается фундаментальными и прикладными исследованиями в области технологического горения. Основное направление деятельности – быстрые экзотермические реакции с участием твердых веществ, протекающие при высоких температурах в режиме самораспространения.
Процессы СВС открыл наш российский соотечественник, академик РАН Александр Григорьевич Мержанов. Я был его учеником. Это направление мы развиваем уже более 40 лет. Отмечу, что традиционные процессы горения связаны в основном с горением различного рода топлива, цель — получить тепло. В этих процессах в качестве окислителя выступает преимущественно кислород. Это так называемое энергетическое горение, продукты которого в основном представляют газы. Мы же занимаемся технологическим горением, наша задача — получить материалы, образующиеся при бескислородном горении и обладающие широким набором механических, электрических, теплофизических и др. полезных свойств. Это тугоплавкие неорганические материалы, керамика, композиты, металлы, сплавы и т.д. Эти материалы используются во всех сферах деятельности, где желательно иметь управляемые свойства.
 — То есть эти свойства можно задавать?
— То есть эти свойства можно задавать?
— Это то, к чему стремится современное материаловедение, ставится задача — получать материалы с заданными свойствами. В наших исследованиях мы используем процессы технологического горения с этой целью. Технологическое горение базируется не только на теории горения, но и использует последние достижения материаловедения. Для большинства людей, далеких от науки, горение – это быстрый, неуправляемый процесс, напоминающий пожар. Однако, основываясь на теории горения и исследованиях механизмов и кинетики быстрых реакций на модельных системах, можно не только регулировать температуру и скорость горения, но и фазовый состав, а также структуру продуктов горения.
В нашей лаборатории разработан и теоретически обоснован метод химического стимулирования процессов твердофазного горения, сформулированы основные требования, предъявляемые к промоторам горения. Это позволило существенно расширить возможности технологического горения и сделать более управляемым процесс структурообразования в экстремальных условиях горения. Помимо разработки новых путей синтеза материалов горением мы занимаемся и изучением кинетики и механизмов твердофазных процессов, протекающих в экстремальных условиях. Однако существующие методы и приборы непригодны для изучения быстрых высокотемпературных реакций. Поэтому нам пришлось разработать новые подходы и методы для изучения быстрых реакций, протекающих в условиях, близких к условиям синтеза материалов в волне горения. Это высокоскоростной сканирующий электротермограф нового поколения и высокоскоростной температурный сканер.
В первом методе одиночная частица в виде тонкой нити или ленты программированно нагревается электрическим током в реакционноспособной среде, при этом достижимы температуры до 3000-3500 гр. С и скорости нагревания образца до 1 миллиона градусов в секунду. В этом случае испытуемый образец является одновременно и реагентом, и источником высоких температур, а в ряде случаев и датчиком температуры. В другом случае объектом исследования является реальная порошковая смесь реагентов. Эта смесь помещается в тонкую металлическую фольгу и нагревается прямым пропусканием электрического тока с заданной скоростью. По сравнению с существующими приборами термического анализа, где скорости нагревания ограничены значением 100 гр./мин., в данном случае она достигает 10000 гр./мин. Немаловажно, что процесс можно остановить в любой заранее заданной стадии и, быстро закалив образец, провести анализы промежуточных продуктов. Это позволяет подойти к установлению реального механизма процесса, имеющего место в волне горения и тем самым к управлению процессом синтеза материалов.
— Аналогичные приборы где-то выпускаются?
— Нет, их нигде не производят. Мы изготовили несколько штук – один электротермограф поставили в США, в Университет Нотр Дам, другой – в Московский институт стали и сплавов, третий — в Ереванский государственный университет, остальные используются в нашем Институте химической физики. Существует всего 5 таких электротермографов и 2 температурных сканера.
— Эти приборы могут быть востребованы?
— В больших количествах – нет, потому что они используются для сугубо исследовательских целей, для решения задач материаловедения.
— И каких результатов удалось достичь благодаря использованию процессов горения и этих приборов?
— Нами разработаны безотходные и энергосберегающие технологические процессы получения нескольких десятков керамических и композиционных материалов, обладающих ценными свойствами. Это порошки карбидов вольфрама и кремния, нитридов титана и кремния, композиты и др. В последнее время мы занимаемся получением порошков металлов и сплавов в основном из природного (оксидного, сульфидного или другого кислородсодержащего) сырья. Впервые в процессах горения мы использовали в качестве восстановителей органические вещества: это полиэтилен, полистирол и др. В настоящее время мы имеем готовые технологии получения микропорошков никеля, кобальта, меди, молибдена, вольфрама и ряда интерметаллических материалов. Большинство полученных материалов тестировалось в известных материаловедческих центрах США и Швейцарии, определены основные области их применения. Порошки меди, никеля, кобальта используются в качестве связующего вещества в производстве режущего, сверлильного и шлифовального инструмента, а также в качестве катализаторов при производстве искусственных алмазов. Порошки кобальта и никеля используются также в производстве высокотемпературных ферромагнитных нержавеющих сталей, жаропрочных сплавов и т.п.
— Как у вас с грантами?
— Начиная с 2000 года мы получили около десяти грантов разных международных организаций. Сейчас совместно с грузинскими коллегами выполняется грант МНТЦ. Поставлена задача разработки нового способа получения так называемых псевдосплавов на основе вольфрама и меди. Материалы вольфрам-медь используются в различных областях, где требуется высокая тепло- и электропроводность меди в сочетании с низким коэффициентом теплового расширения, высокой температурой плавления, износостойкостью и высокой твердостью вольфрама. Основные области применения этих композитных материалов — высоковольтные и силовые электрические контакты, мощные электронные устройства, сварочные электроды, мощные радиаторы, электроды электроэрозионной и электрохимической обработки. Эти работы продолжаются уже более года. За последние пять лет мы получили также 4 гранта Госкомитета по науке Армении, работа по одному из этих грантов продолжается.
— Вы сотрудничаете с зарубежными учеными?
— Давно сотрудничаем с американскими университетами Нотр Дама и Техаса, с федеральным центром материалов Швейцарии, с Технологическим университетом Эстонии, с несколькими институтами Грузии и т.д. Проведена огромная работа в Испании. При выполнении гранта ИНТАС нашим партнером по проекту стала испанская компания «Инасмет». Они захотели, чтобы один из наших сотрудников поработал у них, и это сотрудничество продлилось почти 10 лет. Одним из результатов совместной работы стало получение пористых, тепло- и звукоизоляционных материалов на основе системы титан-алюминий, потом была разработана технология получения медного порошка из отходов кабельной промышленности. Мы использовали отходы завода, который выпускал 15000 тонн медного кабеля в год и там ежегодно накапливалось порядка 100 тонн отходов. Нам удалось из этих отходов в одностадийном процессе горения получить чистый медный порошок.
— В Армении есть производства, которые могли бы использовать эти материалы?
— К сожалению, сейчас таких предприятий нет. Раньше хотя бы частники интересовались, тестировали эти порошки, какой-то спрос на них был, сейчас нет. В те годы, когда мы сотрудничали с испанцами, они нам подарили полупромышленный реактор, позволяющий в одном цикле получить 15-20 кг медного порошка. Этот реактор сейчас находится в нашем институте и может обеспечить выпуск 1-2 тонн медного порошка в месяц. Но спроса на него нет. Имеется возможность дополнительно приобрести такие реакторы. Был бы спрос! Эти реакторы разработаны специально для процессов горения и высоких температур, а мы добавили в них электронику. Так было обеспечено автоматическое регулирование процессов, появились датчики давления и клапаны, регулирующие избыточное давление, что исключает возможность неуправляемого нарастания давления. Недавно интерес к нашим технологиям проявили специалисты из Ирана. Они побывали на нашей кафедре в ЕГУ и хотят направить к нам одного аспиранта для проведения работ по получению медного порошка из отходов. Интерес может быть и со стороны других стран, которые имеют запасы медных руд. Как я уже говорил, медный порошок — это готовый продукт, который можно использовать в различных отраслях промышленности.
— Сейчас много говорится о коммерциализации научных результатов. В этом плане у вас есть реальные перспективы?
— В мире производятся сотни разновидностей порошка меди. Наши порошки, безусловно, могут быть востребованы, и мы могли бы их получать, но вопросами коммерциализации должны заниматься не сами ученые, а специалисты в области коммерциализации. Тут нужны совершенно другие знания и навыки. Но главное – нужны производства, заинтересованные в результатах подобных исследований и нуждающиеся в их практическом применении. Сегодня таких предприятий в Армении нет. Наша горнодобывающая промышленность действует сама по себе. В этой сфере нет никакого интереса к науке, инновациям. Создавая очень серьезные экологические проблемы, наши предприниматели получают и реализуют полуфабрикаты, а не готовый продукт, который мог бы пользоваться большим спросом и приносить значительные поступления в госбюджет. К сожалению, эти возможности не используются. Тут необходимо вмешательство государства, что могло бы обеспечить востребованность результатов научных исследований и значительно повысить эффективность использования природных ресурсов. Но пока мы довольствуемся реализацией черновой меди.