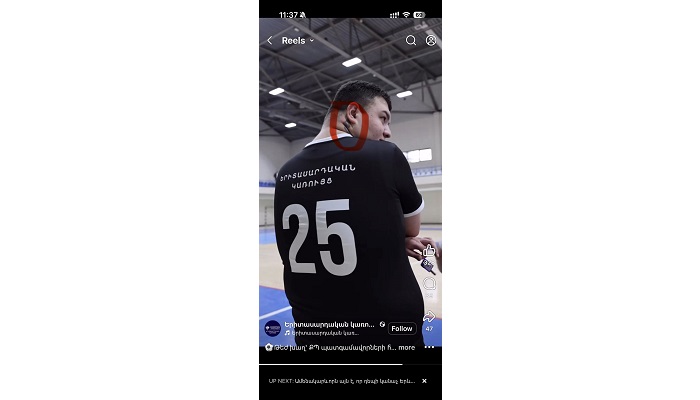За что люблю армян, кроме того что не любить армян невозможно, не говоря уже о том, что и сам не индус.
ИЗ ЖИЗНИ зажатого блокадой, недоедающего, недосыпающего, холодного и временами нервного Еревана. В данном случае о профессоре Ереванского университета, докторе филологии, знатоке армянской поэзии средних веков Альберте Шаруряне. Но не только. Особенность Еревана тех лет была еще и в том, что с профессорами и академиками можно было встречаться в очередях за хлебом, где все равны, но не все одинаковы.
Чем, к примеру, профессор Шарурян отличался от академика Налбандяна, представлявшего ту же гуманитарную науку, стоявшего в той же очереди и за тем же матнакашем? В давние советские времена академик был видным партийным деятелем, и наметанный глаз обывателя мог это сразу же определить. У профессора Шаруряна в смысле партийного прошлого — ничего похожего, если не считать, что учился он в одном классе с Кареном Демирчяном.
Из той же очереди за хлебом…
Виген Тер-Акопян, кандидат медицинских наук, известный всему городу хирург-онколог.
Эмиль Воскерчян, интеллектуал, инженер, изобретатель.
Юрий Минасян, в прошлом замминистра энергетики. С тремя молодыми людьми (два поколения ереванцев) взялись собирать и реставрировать старопечатные армянские книги.
Может показаться, что для хлебной очереди, где и академик, и герой, и мореплаватель, и плотник одинаково хотят есть, все это малозначащая второстепенность. Между тем на первое место выходило главное. В случае с Шаруряном главное — уступчивость, понимание, открытость, доброжелательность. В сумме выходила порядочность. Не от случая к случаю, не разово, а сама по себе, в большом и малом. (Вот маршал Советского Союза Сергей Ахромеев перед тем, как повеситься, пришел к буфетчице и рассчитался за все, что задолжал. Большое это или малое?)
Поначалу казалось, что понимание, доброжелательность и открытость Шаруряна от обжитого до последнего дюйма личного пространства — пересечения проспекта Туманяна с улицей Алавердяна, где профессор провел не одно десятилетие, где родились и жили его дети, потом внуки и где Шаруряна знали все и он, соответственно, знал всех. Но, охотясь за хлебной пайкой, мы, бывало, вторгались на «чужую» территорию. И что? А то же самое.
…СЕГОДНЯ Ереван меняется не только по части архитектурных форм, но и по своему существу. Существо — в потомственных ереванцах. Они, увы, уходят неслышно, тихо, как падающие с осеннего платана листья. Мне жаль, что, проходя мимо дома, где жил мой друг, я уже не услышу стрекота пишущей машинки. Летом он выносил ее на балкон (чтобы не мешать внукам спать), зимой перебирался в кухню, но четко высвечивался в окне.
— О чем пишешь? — спросил я его в один из дней ереванского беспросвета, недосыпа и недоеда.
— О Мецаренце.
— Зачем? — поинтересовался я, обводя муторное пространство вокруг.
— Затем, — объяснил он, — что наши великие забываются: Мецаренц, Фрик, Варужан, Овнатанян… А не должны. Вот выйдет книга, попадет кому-нибудь на глаза — будет повод вспомнить их.
Книга вышла. Деньги на издание дал Католикос Вазген Первый. О гонораре не было и речи.
ИЗ ЖИЗНИ зажатого блокадой, недоедающего, недосыпающего, холодного и временами нервного Еревана. В данном случае о профессоре Ереванского университета, докторе филологии, знатоке армянской поэзии средних веков Альберте Шаруряне. Но не только. Особенность Еревана тех лет была еще и в том, что с профессорами и академиками можно было встречаться в очередях за хлебом, где все равны, но не все одинаковы.
Чем, к примеру, профессор Шарурян отличался от академика Налбандяна, представлявшего ту же гуманитарную науку, стоявшего в той же очереди и за тем же матнакашем? В давние советские времена академик был видным партийным деятелем, и наметанный глаз обывателя мог это сразу же определить. У профессора Шаруряна в смысле партийного прошлого — ничего похожего, если не считать, что учился он в одном классе с Кареном Демирчяном.
Из той же очереди за хлебом…
Виген Тер-Акопян, кандидат медицинских наук, известный всему городу хирург-онколог.
Эмиль Воскерчян, интеллектуал, инженер, изобретатель.
Юрий Минасян, в прошлом замминистра энергетики. С тремя молодыми людьми (два поколения ереванцев) взялись собирать и реставрировать старопечатные армянские книги.
Может показаться, что для хлебной очереди, где и академик, и герой, и мореплаватель, и плотник одинаково хотят есть, все это малозначащая второстепенность. Между тем на первое место выходило главное. В случае с Шаруряном главное — уступчивость, понимание, открытость, доброжелательность. В сумме выходила порядочность. Не от случая к случаю, не разово, а сама по себе, в большом и малом. (Вот маршал Советского Союза Сергей Ахромеев перед тем, как повеситься, пришел к буфетчице и рассчитался за все, что задолжал. Большое это или малое?)
Поначалу казалось, что понимание, доброжелательность и открытость Шаруряна от обжитого до последнего дюйма личного пространства — пересечения проспекта Туманяна с улицей Алавердяна, где профессор провел не одно десятилетие, где родились и жили его дети, потом внуки и где Шаруряна знали все и он, соответственно, знал всех. Но, охотясь за хлебной пайкой, мы, бывало, вторгались на «чужую» территорию. И что? А то же самое.
…СЕГОДНЯ Ереван меняется не только по части архитектурных форм, но и по своему существу. Существо — в потомственных ереванцах. Они, увы, уходят неслышно, тихо, как падающие с осеннего платана листья. Мне жаль, что, проходя мимо дома, где жил мой друг, я уже не услышу стрекота пишущей машинки. Летом он выносил ее на балкон (чтобы не мешать внукам спать), зимой перебирался в кухню, но четко высвечивался в окне.
— О чем пишешь? — спросил я его в один из дней ереванского беспросвета, недосыпа и недоеда.
— О Мецаренце.
— Зачем? — поинтересовался я, обводя муторное пространство вокруг.
— Затем, — объяснил он, — что наши великие забываются: Мецаренц, Фрик, Варужан, Овнатанян… А не должны. Вот выйдет книга, попадет кому-нибудь на глаза — будет повод вспомнить их.
Книга вышла. Деньги на издание дал Католикос Вазген Первый. О гонораре не было и речи.